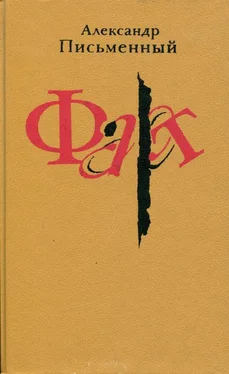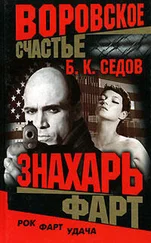Вера Михайловна приподнялась на локте и, с ненавистью глядя на мужа, сказала раздельно и зло:
— Я не хочу об этом слышать! Понимаете вы или нет?
Соколовский отошел к столу и принялся ужинать. Некоторое время они молчали. Потом, кончив есть, он встал из-за стола и сказал:
— Веруся, так продолжаться не может. Ты должна найти себе какую-нибудь работу. Нельзя так жить, как ты.
— Хорошо. Это мне все известно, — холодно сказала Вера Михайловна, — ложитесь лучше спать.
Вздыхая и поглядывая на жену, Соколовский начал послушно раздеваться. Вера Михайловна не смотрела на него, но выражение ее лица было такое, точно она смотрит на него и его толстые розовые ноги в измятых трусиках, розовая жирная его грудь — тело младенца и обжоры — вызывают у нее отвращение.
Он разделся и погасил на туалетном столике лампу.
— Веруся, не сердись на меня, — сказал он, обнимая жену, — ты зря на меня сердишься. Мы могли бы хорошо жить, но ты сама портишь нашу жизнь. Я тебя страшно люблю, а ведь это самое главное.
Вера Михайловна не отвечала, но и не отталкивала его, покорно принимая ласки. Он прижал ее к себе, шептал на ухо, целовал, вымаливая у нее ответ.
В кабинете зазвонил телефон. Соколовский выругался и, наталкиваясь впотьмах на стулья, пошел к аппарату.
— Да, я слушаю, — сказал он. — Что? Да не может быть! Ах ты черт возьми! Сейчас приду, сию минуту.
Он бросил трубку и зажег свет, чертыхаясь.
— Что случилось? — спросила Вера Михайловна.
— В прокатке рабочего обварило, — сказал Соколовский. — Очевидно, в изложницу кто-то уронил крышку и болванку прорвало при обжиме.
Он быстро одевался, а Вера Михайловна укоряюще глядела на него…
Катастрофа случилась в прокатке, но виноват в ней был мартеновский цех.
После выпуска стали изложницы закрывали чугунными крышками, так как металл рос и выливался в канаву. Были и раньше случаи, когда по неосторожности кто-нибудь сваливал крышку в изложницу. В таком случае на изложнице делали отметку и болванку отправляли в брак. Но молодые рабочие иногда скрывали свою оплошность. Температура плавления чугуна — ниже температуры плавления стали; нагретая для прокатки болванка с сердцевиной из расплавленного чугуна лопалась во время обжима на вальцах, и чугун брызгал из нее, как сок из раздавленного помидора.
Когда Соколовский вбежал в прокатку, раненого рабочего уже увели в медпункт, у прокатного стана толпились люди, и среди них он увидел Муравьева.
— Кого ранило? — закричал Соколовский.
— Голову с вас мало снять. Под суд идут за такое дело! — говорил начальник прокатки Муравьеву, а увидев Соколовского, повернулся к нему с таким видом, точно готовился надрать уши. — А-а, пожалуйте-ка сюда! — сказал он. — Что это такое, я вас спрашиваю? Зорину все плечо сожгло.
Не зная, что ответить, Соколовский покачал головой. На него кричали, теребили за пиджак, грозили, что завтра у директора устроят бенефис, какого он в жизни еще не видывал. Соколовский посмотрел на Муравьева и поразился, как бледно и расстроенно его лицо. У Муравьева дрожало веко, кривился рот. Черные провалы морщин резко выделялись на его побелевшем лбу.
— Что с вами? — спросил Соколовский.
Муравьев, не отвечая, повернулся и пошел к выходу из цеха. Соколовский подписал акт, составленный прокатчиками, и, отругиваясь, побежал за Муравьевым.
— Бывает, Константин Дмитриевич. Чего вы так расстраиваетесь? Зорин жив, через неделю станет на работу.
Муравьев обернулся и сказал:
— Это я свалил крышку в изложницу.
— Не может быть?!
Муравьев с досадой повернулся и пошел вперед.
— Почему же вы не приказали выкинуть болванку? — спросил Соколовский, догоняя его.
— Забыл. Понимаете, забыл. Меня кто-то отозвал в эту минуту, и проклятая болванка вылетела из головы!
Соколовский похлопал его по плечу и взял под руку.
— Не отчаивайтесь, Константин Дмитриевич. Пойдите завтра к Зорину в больницу, он хороший парень. Расскажите ему, как это произошло, на душе полегчает.
Он довел Муравьева до конца улицы, откуда за деревьями были уже видны освещенные окна дома приезжих, и спросил:
— В шахматы вы играете?
— Играю, но здесь у меня доски нет.
— Ничего, — сказал Соколовский. — Птичьего молока достать трудно, а шахматы мы достанем.
Он огляделся, перешел улицу и постучал в чье-то светящееся окно.
Через минуту он вернулся с шахматами. Они зашли к Муравьеву и сели играть.
А Вера Михайловна в это время лежала одна в темной комнате и плакала. Плакала она сразу и от скуки, и от злости на мужа, на Муравьева, на себя.
Читать дальше