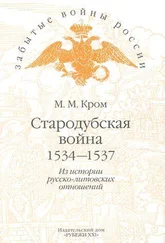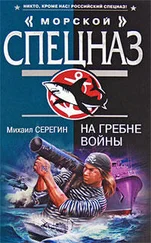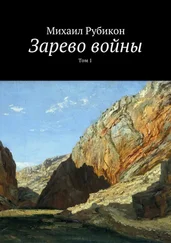– Так це твоя мама? – возмущённо воскликнул Кийко. – Ну ты и свинюк. А ну давай горячего чаю, и я с вами посижу! – и, не дожидаясь согласия, скинул обувь и дублёнку. Через пять минут они втроём сидели на кухне, пили чай, и Гриша, которого словно прорвало, подробно рассказывал малознакомому «хохлу», что с ним произошло в последние месяцы, не утаивая ничего. Кийко слушал, качал головой и бросал взгляды на Анну Владиславовну, сидевшую молча и бледневшую всё более, пока сын в своей внезапной исповеди раскрывал тайну за тайной, объяснявшую если не всё, то многое. Как и в прежние годы, когда требовалось разговорить кого-либо, никто с этим не справлялся лучше главного редактора «Памяти», хотя он ничего и не делал специально, так и теперь безотказное обаяние великана словно вышибло пробку из бутылки, и рассказ Гриши тёк безостановочно, насыщаясь всё большими подробностями. По выходе из тюрьмы сердце Гришино болело, он жаждал исповеди. Но не мог исповедаться. Ему бы пойти в церковь, да сил не было. Ему бы найти общий язык с матерью, да воли не хватало. Так и маялся, томясь невысказанной болью. Но вот появился Костя, перед кем неохота прятаться, и, наконец, стало отпускать…
Кийко слушал молча, кивая косматой головой. Картина падения в пропасть нелепостей запутавшегося «брата-афганца» вырисовывалась всё отчётливей. Он видел, что Гриша не подлец, не трус, не из тех, про кого говорят «чужой». Ему требовалась помощь. Но что-то помимо сказанного Григорием добавляло беспокойства. Когда же Гриша дошёл до того, как оказался в тюремном лазарете, Костя, не дожидаясь подробностей, в первый раз перебил его и сказал:
– У, поубывав бы гадив! Це ж тоби наркотик вкололы, як ты не зрозумив! Тильки за яким лядом? На иглу посадить чи шо?
Анна Владиславовна вздрогнула:
– Как ты, Гриш, а?
Он осёкся. Очевидность причин неожиданной хвори и последующей ломки просто не приходила в голову. Даже когда следователь напрямую задал ему вопрос о наркотиках, Гриша искренне не поверил ему и не связал своего состояния с ними. Он часто-часто заморгал и дрогнувшим голосом спросил:
– А ты уверен, Костя, что это именно…?
– Не то слово, уверен! – грустно усмехнулся Кийко и прицокнул языком. – Щоб так удержаться, надо быть гарным чоловиком. Молодец, колы не подсел. Но к врачу щоб завтра же! Горилку пьешь?
– Пьёт, – за сына ответила мать, но Григорий возразил:
– Нет, мама, сейчас практически не пью. Только вот курю.
– Завтра же к врачу, – категорически повторил Кийко и встал. – Ладно. Трохи засидився. Пора до дому. Поздно.
– Именно поздно, – спохватилась Анна Владиславовна. – Оставайтесь, Костя. У нас комната свободна, – и посмотрела на сына. Тот согласно кивнул, после чего сразу встал и вышел.
Невидимой ниточкой натянулась не поддающаяся логике здравого смысла связь, по которой летели со скоростью мысли горячие сообщения в оба конца. На одном – не находящая себе места Татьяна, физически испытывающая медленно затягивающуюся петлю нежити вокруг себя, а на другом – Григорий. Его бесило, что не он расставил сам точки над i, дождавшись, когда формальное заявление сделает Настя. Его бесило, что любимый человек так и не знает, что препятствие в виде ненавистного брака, стоявшее между ними, в скором времени будет устранено. Его приводило в ярость, что он не может найти в себе силы ни позвонить, ни даже написать Тане, чувствуя себя перед нею виноватым. Он метался в четырёх стенах, полный ярости, как тигр по клетке, не понимая, каким образом оказался втянут в чудовищную по нелепости, но в то же время, такую ужасающе реальную криминальную историю. Он злился на своё малодушие, так и не позволившее сделать шаг и позвонить Туманову, к которому, без вины с его стороны, питал внезапно вспыхнувшее чувство неприязни. Его бесило осознание того, что те люди, из мира которых он выпал несколько лет назад, потом решил вернуться, считая их критерием и показателем уровня общества, – музыканты, артисты, художники, литераторы, искусствоведы, – единодушно отвернулись от него, стоило ему лишь споткнуться. Он пытался найти хоть какое-нибудь оправдание этому единодушию – и не находил. От этого перемешанная с презрением ярость его ко всем этим напыщенным творческими амбициями людям становилась только горячее и жгла, жгла, жгла душу, уязвлённую, вдобавок, стыдом. И ко всему этому, признать, что никак не причастен к расставанию с женой, и это всецело её инициатива – значило признать, что важнейшего уговора с возлюбленной мужчина исполнить не смог. Как он теперь посмотрит ей в глаза? Как оправдается?
Читать дальше

![Михаил Водопьянов - В дни войны [Рассказы]](/books/30959/mihail-vodopyanov-v-dni-vojny-rasskazy-thumb.webp)