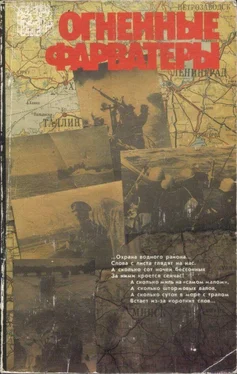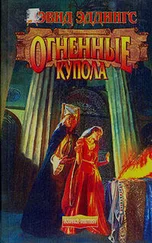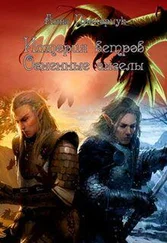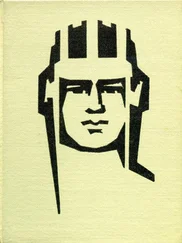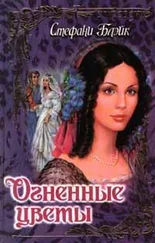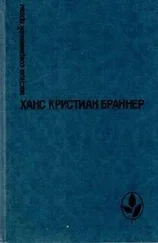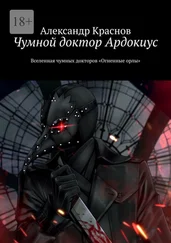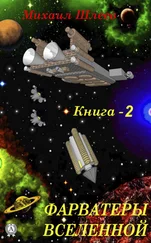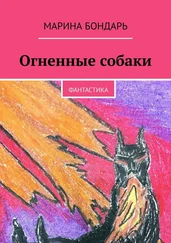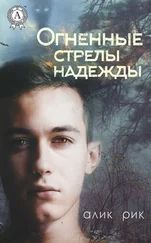Как правило, человек, получивший такой выговор, понимал, что скоро ему придется менять место службы.
Слышал я, что Богданович — волевой и умный командир, хорошо знает военно-морскую тактику и хорошо разбирается в вопросах оперативного искусства, легко ориентируется в боевой обстановке и всегда четко формулирует боевую задачу. Я понимал, что на новом месте надо завоевывать деловой авторитет, и твердо знал, что на меня станут смотреть не то чтобы особо — с пристрастием: «Как-то он себя после Крылова покажет?»
А Ивана Васильевича в штабе ОВРа помнили как отличного товарища, как опытного штурмана. В течение 30 дней после его гибели место Крылова в кают-компании никто не занимал, на обеденном столе одиноко поблескивали пустые тарелки… Я уважал Крылова, и эта добрая память о нем была приятна.
Обстановка, в которой действовал ОВР, была чрезвычайно сложной: в районе Урицк — Петергоф противник не просто вышел на берег, но к юго-западной окраине города, к Морканалу. Это определяло опасность как высадки десанта со стороны залива, так и блокады всех путей к Кронштадту, Ораниенбауму и далее. Велика была опасность атак фашистскими торпедными катерами наших кораблей как в Невской губе, так и в Неве. Особо опасным было зимнее время. Ибо вся Невская губа превращалась в сухопутную линию фронта, и немцы могли предпринять попытку атаки города по льду. ОВР обязан был прикрыть город со стороны моря от всех этих и других опасностей — задача не из простых. Выполнение ее требовало отлично налаженной боевой и организаторской работы, грамотных оперативных и тактических решений и установок. Их-то и разрабатывал штаб ОВРа. Но это были не просто «руководящие указания» — специалисты штаба принимали самое непосредственное участие в проведении каждой из операций. Все, начиная с командира Богдановича и комиссара Усанкина, выходили на кораблях, которые несли дозоры, обеспечивали переходы конвоев, участвовали в боевом тралении и высадке десантов, ходили на лед с Отрядом зимней обороны…
В сентябре 1942 года, когда я пришел в штаб ОВРа, он размещался на плавбазе «Красная звезда». Но вскоре плавбазу отдали какому-то соединению — для ОВРа к этому времени были подготовлены специальные помещения. На Крестовском острове привели в порядок двухэтажный загородный особняк. На первом этаже здесь располагались дежурный по штабу ОВРа, караульное помещение. Здесь же находились камбуз, столовая личного состава, командирская кают-компания. Верхний этаж был отдан под салон командира ОВРа, жилье и служебные помещения — тут размещались все начальники и флагманские специалисты. Радистам был выделен специальный дом во дворе особняка — «домик связи», как его звали.
На Кировских островах оборудовали специальный железобетонный бункер, состоящий из нескольких помещений. В самом большом из них находился командный пункт штаба ОВРа (КП) и оперативный дежурный штаб (ОД): здесь стоял огромных размеров стол, на нем — морские карты, глянув на которые можно было четко представить себе обстановку на всем театре военных действий ОВРа. На втором столе стояла аппаратура связи, — в считанные секунды ОД мог связаться с любым из наших дивизионов, постов, аварийных партий и брандвахт. И безусловно, с командованием базы и флота, других соединений, а также с командованием Ленфронта.
Несколько слов хочу сказать о тех, кто находился в те дни рядом и помогал мне, новому в ОВРе человеку, входить в курс дел и обстоятельств. И не только мне, но и новому начальнику штаба капитану 3-го ранга Якову Сергеевичу Большову, с которым мы в одно время заканчивали академию, — он прибыл в ОВР несколько позже меня, в декабре, сменив капитан-лейтенанта Илью Хамова.
Но сперва о самом Большове. Фамилии своей он отвечал полностью — высокий рост, крупное скуластое лицо с чуть раскосыми широко поставленными глазами, широкие плечи и большие руки. Все достаточно быстро поняли: у нового начальника штаба острый ум, твердый характер. Он умеет не только наладить четкую и дружную работу, но и прислушаться к мнению подчиненных.
Так вот, его подчиненные, а мои товарищи, помогали нам — флагарт Петр Маркович Дубовский и флагминер капитан 3-го ранга Андрей Николаевич Барабанов, флаг-связист инженер-майор Владимир Николаевич Самойленко, человек подвижный, резкий и крайне острый на язык. Я уже не говорю о флагманском механике инженер-капитане 2-го ранга Владимире Александровиче Звездине — он и возрастом был постарше всех нас, и, наверное, посерьезнее: дивизионные и прочие механики, которые не могли или не хотели понять требований Звездина, у нас, как я потом понял, не держались. В этом флагмех был чем-то сродни Богдановичу, хотя, в общем-то, это были разные люди. Многому я, как это ни странно, научился и у флагврача — он был истинно военным человеком и уникальным доктором: в 1937 году Борис Николаевич Шишкин закончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе и тут же поступил в… Военно-медицинскую академию. Врачом он стал перед самой войной… В штабе ОВРа служили рядом со мной флагхимик Владимир Иванович Векслер, «в миру», как мы говорили, преподаватель Университета, и другие командиры — старший лейтенант Сергей Всеволодович Остроградский, гвардии капитан-лейтенант Николай Николаевич Корсак, старший лейтенант Григорий Петрович Рогатко, лейтенант Игорь Николаевич Климчинский. Все это были мои боевые товарищи. Мы вместе несли службу, вместе участвовали в боевых операциях. И не помнится такого, чтобы в трудный момент кто-нибудь из них не пришел на помощь к тому, кому эта помощь нужна!
Читать дальше