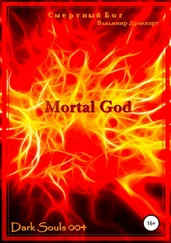На дороге
Возле речушки, мост через которую был разрушен, танки настигли небольшую немецкую часть, принадлежащую, по-видимому, армейским тылам.
К этому моменту серое небо успело оторваться от земли и подняться вверх, оставив только куски лохмотьев в низине у речки. Там, проломив при переправе тонкий весенний лед, в воде сидело несколько грузовиков. Вокруг них копошились солдаты. Другие грузовики, которым удалось проскочить через лед, буксовали на противоположном берегу, пытаясь вытащить на тросах засевшие машины…
Танки ударили по переправе из орудий.
Один грузовик сразу загорелся. Серые человеческие фигуры кинулись от машин во все стороны. Они бежали по ломкому льду, выскакивали из воды, карабкались по крутому склону.
Те грузовики, которым удалось освободиться от буксирных тросов, бешено рванулись к дороге в лес. За их борта цеплялись солдаты…
Скоро переправа совсем затихла. Однако танки по-прежнему стояли в прибрежных кустах и стреляли по брошенным машинам. Они опасались того, что из леса им может ответить артиллерия, и, только когда стало вполне ясно, что опасенья эти излишни, рота спустилась по отлогому склону к речке и форсировала ее.
На другом берегу Андриевский остановил машину, встал на сиденье и высунулся из люка по пояс. Но и в таком положении ему плохо была видна дорога, по которой предстояло двигаться его роте, и он послал своего заряжающего разведать на местности: нет ли там завалов или противотанковых мин.
Ожидая возвращения Карасева, он лениво следил за тем, как его «тридцатьчетверки» осторожно ползут по отмели, задевая иной раз ненароком брошенные немецкие грузовики. Потом он зачем-то посмотрел вниз, на землю, и увидел, что рядом с его гусеницей, почти задетый ею, лежит немецкий солдат. Борис обычно видел убитых только мельком, на ходу, из машины, а тут труп был совсем рядом с ним, и он неожиданно почувствовал к этому раскинувшемуся телу острое и неприятное любопытство.
Немец лежал на спине, ноги у него были переплетены. Одна рука попала под спину. Он был без шинели, но в каске, которая закрывала лоб и глаза, оставляя открытыми лишь морщинистые щеки и острый подбородок.
Ничего интересного в этом солдате не было, и Борис про себя немного был удивлен тем, что ему хочется смотреть на труп. К тому же ему мерещилось (чего, как он понимал, не могло быть), что ветер иногда доносит до него легкий и противный запашок, и Борис то и дело продувал ноздри, энергично делая выдох носом. А потом ни с того ни с сего он вдруг представил себе, что это он сам лежит на спине с переплетенными ногами и вывернутой рукой возле чужой грязной гусеницы. Это было похоже на то, что он всегда воображал, когда шел на каток в Парк культуры и переходил Крымский мост. Остановившись на минуту возле перил, он смотрел вниз, в глубокую пропасть, и ему казалось, что он видит, как летит в нее его распластанное тело. Он знал, что этого никогда не будет. И теперь он так же в глубине души знал, что никогда не будет лежать, как лежит этот немец.
Борис попытался представить себе семью этого человека, его жену, детей, бабушку, как он сидит дома и пьет чай и как он едет по дачному поселку на велосипеде. Ничего из этого не получилось. Немец появился из какой-то другой, непонятной и неизвестной жизни, и он сам, его серый подбородок, его топорщащийся мундир, его поза — все было таким чужим, как будто это был не человек, а какое-то другое существо. Было даже удивительно, что его тоже убили, как убивают обыкновенных своих ребят, и это неприятно уравнивало его с ними…
Подъехал Ларкин. Он тоже стоял в люке по пояс. Мельком взглянув на труп, он крикнул Андриевскому:
— Плохо, что десант не взяли! Что с трофейными грузовиками думаешь делать?
Борис не ответил. Рядом с ним, из соседнего люка, появилась голова Камила Султанова. Он чему-то улыбался. Радостными глазами он посмотрел на небо, потом на Андриевского и перевел взгляд на убитого немца.
— Мертвый? — спросил он с радостным интересом.
Борис повернул к нему голову, втянул ее в плечи, состроил рожу и, размахивая руками, дурашливо прокаркал слова из анекдота:
— О том, чтобы прыгать, не может быть и речи…
Султанов засмеялся, а Ларкин сердито крикнул:
— Зачем так говорить?
— Ладно, философ, не лезь в бутылку, — весело крикнул в ответ Андриевский. И тут же спросил: — А ты за кого обижаешься: за фрицев или за кого?
— Я сам мордвин, — сказал строго Ларкин.
Читать дальше
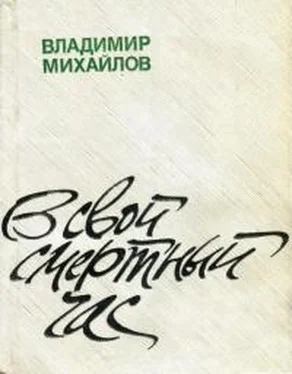







![Владимир Упоров - Смертный Бог [СИ]](/books/411019/vladimir-uporov-smertnyj-bog-si-thumb.webp)