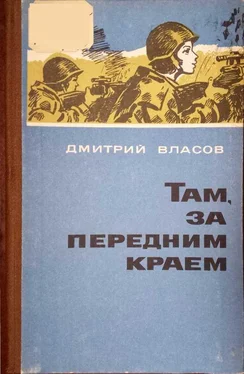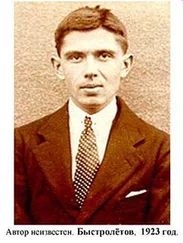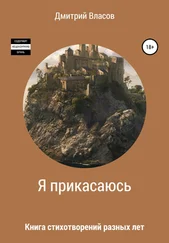— Можно сказать, все. Только Люду Михайлову контузило. Но она тут, в полковом медпункте лежит. Врач говорит: через неделю поправится.
— А рыжая как? — вроде бы мимоходом спросил Николай.
— И вовсе не рыжая она, — Вадим поднял на друга прищуренные в улыбке глаза. — Я тебя поправлял уже не один раз. Золотоволосая! Надя Чуринова сегодня получила орден Славы III степени… Ну да ладно, о девчатах потом. Ты расскажи, как съездил, как дома встретили, как живут в тылу?
Лицо Николая сразу посерьезнело. Он с минуту молчал. Потом взял за лямки вещмешок, повернулся к Никитину, стоявшему неподалеку.
— Слушай, Никитин, отнеси «сидор» ребятам в землянку, в нем кое-что есть вкусное. А я тут с братишкой потолкую. Пойдем, Вадим, присядем где-нибудь. На твои вопросы одним словом не ответишь.
Они прошли метров пятьдесят от землянки, сели на поваленное дерево.
— О чем тебе рассказать? — Николай обнял за плечи Вадима. — До дому добрался на четвертые сутки. На всем ехал: на попутных машинах, пассажирских поездах, товарняках. Отношение к фронтовикам, прямо скажу, почтительное — нигде даже билета не спросили. А последние двадцать километров — от железной дороги до нашего села — пёхом. Мать увидела меня — слезы ручьем, слова сказать не может. У меня самого горло перехватило. Смотрю на нее, а она маленькая вроде стала, худенькая, лицо потемнело, в морщинах. Прижался к ней, слышу, сердечко стучит гулко, часто. И запах от кофточки такой родной, такой домашний. Тут бабушка вышла на крыльцо. Ойкнула, скрестила руки на груди — и к нам. Обняла, причитает. Тут же расспросы, как да почему? Не верили, что в отпуск, думали, по ранению отпустили. Соседи стали сходиться. У тех один вопрос: «Нашего там не видел?» Мать у печки суетится. Вижу, не из чего ей праздничный ужин-то собирать. Достал из вещмешка консервы, сало, хлеб. Сосед-инвалид бутыль самогону притащил. «Берёг, — говорит, — для такого случая». Картошки наварили. Огурчики появились, капуста там разная. Сели за стол, а к окнам ребячьи носы приклеились. Смотрят на меня, некоторые даже подмигивают, а я никого не узнаю. Три года ведь дома не был. Выпили по стаканчику, по другому. За победу, за возвращение всех мужиков домой. Меня все расспрашивают, много ли бывает убитых, что значит «пропал без вести», как фашист — лютует или уже готов капут кричать. О себе только ничего не говорят, о своем житье-бытье. Да мне и без слов все ясно. Тяжело им. Работают от темна до темна, а живут впроголодь. Женщины, дети да старики. Машин нет, лошадей с десяток осталось. Все вручную. Но не унывают. Бабоньки, когда выпили, песни запели, с частушками в пляс пошли. «Мы, — говорят, — все выдюжим. Лишь бы мужики наши домой пришли.»
Умолк Николай. Думает о чем-то. Лицо и мечтательное и тревожное немножко. Снял пилотку, расправил ее на коленях, звездочку покрепче прижал. Вадим толкнул плечом: дескать, давай дальше.
— А дальше, — продолжал Николай, — как и положено, было утро. Я собрался и пошел в райвоенкомат становиться на учет. В селе нашем все районные власти располагаются в одном двухэтажном здании. Вышел из райвоенкомата, иду по коридору, и тут мне навстречу дивчина. Увидел я ее и остолбенел. В легком цветастом платье, тонкая, стройная. Волосы пушистые, пепельного цвета. Ресницы, как вееры, взметнулись. И на меня нацелила свои серые с голубым отливом глазищи. Огромные, глубокие. Сразу почувствовал, что тону в них. Улыбнулась она тепло так, ласково и говорит: «О, фронтовик у нас в гостях. Кто, откуда? Заходите к нам в райком комсомола. Я сейчас замещаю первого секретаря. Зовут меня Алла Евсеева. Вы не очень торопитесь? Пожалуйста, заходите сюда». И открыла дверь, рядом с которой мы стояли. Захожу я вслед за ней, улыбаюсь, как дурак, а сказать ничего не могу. Пригласила она меня сесть, спрашивает, как дела на фронте, как молодежь воюет. Постепенно и я разговорился. Рассказываю, а сам глаз с нее не свожу. Солнечный лучик в волосы к ней забрался, ласкает их. Она слушает меня, на листке бумаги звездочки, самолетики рисует. И говорит мне: «Знаете что, выступите сегодня в школе перед учениками девятых-десятых классов. Расскажите о себе, своих товарищах. Очень прошу. Я за школьный сектор в райкоме отвечаю. Соглашайтесь. Вместе пойдем». В тот момент позвала бы она меня к черту на именины — не задумываясь пошел бы. А тут — в родную школу, где десять лет учился… Пошел, конечно. Ребята слушали меня с открытыми ртами. И все спрашивали, за что этот орден получил, за что тот… А вечером мы бродили с Аллой вдоль реки. Говорили о разном и о твоих «стеклышках» тоже. Когда рассказывал ей о вылазках в тыл фашистов, пугливо жалась и все допытывалась: разве это не страшно? Короче говоря, за всю неделю я ни одного вечера дома не провел, был около нее. Мать, соседи даже обиделись: поговорить как следует не удается. Лишь бабушка с понятием отнеслась: пусть, говорит, дело-то молодое. Я ходил как помешанный. Очень мне хотелось узнать, какие же у Аллы глаза. То небо в них, то туча дождевая. Вот уж никогда не думал, что цвет глаз может меняться от настроения. Выражение — это понятно, но чтобы цвет… И еще. Очень искал в них тепло. Все видел — живинку, интерес, лукавинку, настороженность, а тепла не было. Однажды вроде мелькнул огонек, но тут же исчез. Возьму ее порой за плечи — худенькая, дрожит. Боится, что ли?
Читать дальше