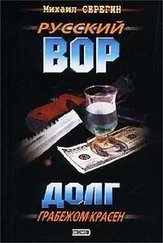— Знаю, куда там…
— Ну вот… Зимой директор совхоза, Александр Иваныч Латышев, приехал в поселок насчет лесоматериалу. Говорит, новый скотный двор будем в Амбе ставить. Иди, говорит, плотники нам во как нужны. — Степаныч чиркнул ладонью по горлу.
— Ну и что? — снова не вытерпел Николай.
— Вот тебе и что! Зовет, говорю, Латышев…
Степанычу явно хотелось показать, что не сам возвращается он на родное подворье. Меркулов заметил: что-то сдерживало Степаныча перед Николаем, перед Николаевой легкостью, что ли.
Меркулов видел старый скотный двор в Амбе. Темное осевшее сооружение, механизация самая примитивная. Да и писали в газету доярки, что стало опасно работать на скотном дворе. Он тогда еще поместил письмо доярок на первую полосу, чтобы было оно заметно, не миновало внимания совхозного начальства. И вот теперь в Амбе строят новый коровник…
Меркулов чувствовал: что-то новое, бередящее душу, вошло в него с первого же приезда в Амбу, это было больше, чем обычная тяга журналиста к узнаванию людей и явлений; Амба незаметно стала частицей его судьбы, по воле случая она протянулась далеко к его молодости, была созвучна тому, что носил он в себе, боясь выставить напоказ. С некоторых пор поселилась в Меркулове еще какая-то простота, с какой он теперь смотрел на себя и на все, что окружало его, все стало для него доступнее, и он подспудно чувствовал, что есть единственная мера, которой только и можно познать себя, а в себе и весь изменчивый мир, — мера добра.
— Ты, Степаныч, это брось, на пенсию, — говорил Николай возбужденно. — Я другой раз погляжу на Латышева, мне жалко его. Начнут утренний развод делать, выйдет с десяток баб — и вся рабочая сила. То ли на прополку их ставь, то ли на сенокос, то ли на силос. Спасибо, школьники выручают, так ведь то ребятишки, тяжелую работу им не дашь. И то весь сентябрь картошку роют…
— Это правда… — Степаныч надолго задумался.
Прислоненные к воротам чисто оструганные доски ослепительно сверкали на солнце, от них сладко пахло свежей древесиной, пахло жильем, весной.
Николай вдруг улыбнулся мечтательно, затаенно.
— Как ни крути, а человеку без родного места не прожить. Не-ет, земля тянет, ух тянет как. Что говорить о людях — вон лебедушки на Камышовое возвернулись… Слышь, Степаныч, прошлый год двое кликунов поселились на Камышовом. Я всю зиму гадал: вернутся или нет из далеких жарких стран в Сибирь-то нашу… Вернулись, вон Михалыч видел, слышь, Степаныч?
Тот посмотрел на Николая, и выражение досады от пустых, как он полагал, видимо, слов, мешающих ему думать свою думу, вдруг ушло из его хмурых глаз, они просветлели легкой улыбкой.
— У тебя одно на уме, лебедушки да лебедушки… Груня-то как, жива-здорова?
— Жива-здорова, стало быть… Вон Толька солдат уже, на побывку прибыл из Чехословакии.
— Это доброе дело, — Степаныч встал. — Надо кончать крыльцо, за крышу браться. Крыша всему голова. — Он, встав на лестницу, попробовал ее на прочность, начал медленно взбираться вверх. И уже оттуда, сверху, сказал, нахмурившись: — Ты, Николай, гни его к дому-то, гляди, утекет. На нас, стариков, надежда малая…
И пока шли домой, Николай вспоминал слова Степаныча:
— Утекет… Сам опасаюсь.
Видно было, что те слова резанули его по живому.
Изба у Николая была большая, светлая. Как взойдет солнышко, так и польется в широкую горницу да в переднюю, заиграет на никелевых шарах кровати, на покрытой белой холщовой скатертью столешнице с пылающим медью самоваром во главе, на крашенном ясной масляной краской полу. И особо высветится в передней большая печь, тоже крытая масляной краской, только голубым небесным цветом, а от печи идет свой жар, свой свет — и сразу праздник в избе. За день-то заглянет солнышко и в примыкающую к горнице спаленку, и в боковушку, снятую охотхозяйством, там, всегда прибранные Груней, стоят четыре железные кровати с тумбочками, а на тумбочках чистые салфетки, и даже есть графин с водой, как в порядочной гостинице.
Умели в старину ставить избы. И от той старины многое хранила Николаева изба, хотя бы вот этот крепкий большой стол у веселого окошка, а от угла вдоль стола две скамьи идут, крепкие, чисто струганные еще дедами-пахарями; им нужны были покой и крепость под собой, и твердый стол, и горячий дым над чашкой, и жар от печи после работы на тяжелой сибирской земле и по тяжелой сибирской погоде. Много было в избе от старины. Но много и нови было в избе, без нее все бы ушло в тину, это закон жизни. И вот в переднем углу, как раз под иконой с ликом Варвары мученицы, о которой Груня, когда Меркулов вгляделся в икону, определяя, старое ли письмо, будто извиняясь, сказала: «От мамы память единственная, мы-то еще с комсомолу живем по-своему», — большое серо-зеленое стекло телевизора, и стоит он на столике нынешних строгих форм. По вечерам как вспыхнет экран, так совсем потонет печальный лик Варвары-мученицы, одни глаза видны, с укоризной глядящие.
Читать дальше




![Михаил Горбунов - Белые птицы вдали [Роман, рассказы]](/books/202576/mihail-gorbunov-belye-pticy-vdali-roman-rasskazy-thumb.webp)