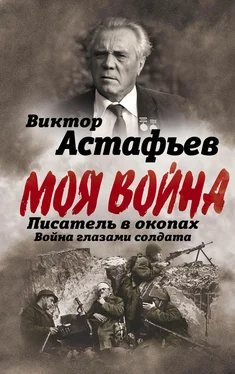Хотелось бы, но никак не могу забыть мой последний разговор с парализованным Астафьевым. Это был страшный разговор. Страшный по своей интонации. В его словах уже не было никакой надежды. Одна только боль.
А потом, после смерти, нашли записку, обращенную к живущим: «Я пришел в мир добрый, родной и любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать Вам на прощанье. Виктор Астафьев».
Будет еще горестный вскрик вдовы Марии Семеновны во время моего длинного-предлинного телефонного разговора с ней в апреле 2002 года. Она не сможет ни простить, ни забыть совершенного властью: «Кто бы знал, каким для Вити это было ударом! Как он это все переживал… Кто бы видел его мучения!»
В больнице Астафьев мне скажет: «Думаю, что неблагодарность – самый тяжкий грех перед Богом. И могу сказать, что большую часть своего писательского времени я потратил на помощь другим». Вот, выходит, мы его и “отблагодарили” за все сделанное под самый конец…
Кем я был для Астафьева? Никем. Случайным прохожим, которому судьба подарила три разговора с сибирским праведником из Овсянки. И к этим разговорам я мысленно возвращаюсь все чаще и чаще. И помню я все в мельчайших деталях.
2001 год. На красноярском рынке покупаю фрукты для хворающего Астафьева. Мне их заворачивают в местную газету. На черном фоне крупным шрифтом написано: «Виктора Петровича Астафьева представлять широкому читателю не нужно. Он самый читаемый сегодня русский писатель». С удивлением рассказываю парню продавцу, как неожиданно все соединяется. Продавец смотрит на меня и не понимает. Об Астафьеве ничего не слышал…
Вспоминая, какой литературой завалены книжные магазины, смотрю на дату выпуска газеты. Но газета почти свежая…
Я захожу к Астафьеву в больничную палату. Палата одноместная, но без излишеств. Он уже встал, после сна. Приглашает: «Проходи, садись, я сейчас». А сам подсаживается к столу и низко-низко над ним склоняется. Так низко, что вначале я даже не понимаю, что он там делает. Вижу только, как быстро-быстро обеими руками что-то перебирает, да так торопливо и сноровисто у него это получается, что мне он тут же начинает напоминать бурундучка, на валежине разлущивающего шишку. И не поворачивая даже головы в мою сторону, говорит: «Люблю кедровые орешки. Слабость к ним питаю… Не сильно торопишься?»
Я вдруг ловлю себя на чувстве неловкости. «Сибирские семечки» он продолжает щелкать с какой-то удивительной детской непосредственностью, так увлеченно и с такой радостной искренностью, как будто и нет никого рядом.
Так бывает, когда зайдешь неожиданно в комнату и застанешь человека за каким-то простым, сокровенным занятием. Хочется побыстрее, тихонечко уйти, пока тебя не заметили…
«Рассказывай!» – просит меня Астафьев. Я начинаю, как мне кажется, с самого приятного. Рассказываю, что возвращаюсь из Енисейска и что в поселке Подтесово хотят назвать его именем новую, современную школу. Астафьев отстраняет кедровые орешки и протестующе машет руками:
– Не надо всей этой мишуры. И почестей мне достаточно, и место есть свое в литературе… Не нужно этого. Хотя и с добротой отношусь я к подтесовцам… Не раз бывал там…И помогал им…Меня по такому же поводу библиотекари в родной Овсянке одолевали. Знаешь, как одолевали!? О-о-о! Но при жизни чтоб моим именем называть.… Нет, не прилично это. Потом… Потом делайте, что хотите…
Из письма В.П. Астафьева жене. 1967 год: «Как жить? Как работать? Эти вопросы и без того не оставляют меня ни на минуту, а тут последние проблески света затыкают грязной лапой…Настроение ужасно. Мне хочется завыть и удариться башкой о стену. Будь же проклято время, в которое нам довелось жить и работать!..
Нас ждет великое банкротство, и мы бессильны ему противостоять. Даже единственную возможность – талант – и то нам не дают реализовать, употребить на пользу людям. Нас засупонивают все туже и туже…Руки опускаются. И жаль, что это ремесло невозможно бросить».
К моменту нашей встречи Астафьеву исполнилось семьдесят семь лет. И я разговаривал с человеком, который не просто прожил целую эпоху, а сумел еще и осмыслить прожитое. Редко кто берется за такую тягостную и неблагодарную работу.
– Виктор Петрович, однажды Вы сказали: «Главное, чтобы душа была в мире с людьми и с самим собой, а дело было у каждого такое, чтобы забирало целиком». Но у Вас, не очень-то получалось жить со всеми в мире…
– У меня с умными людьми всегда складывались добрые отношения, потому что умею их слушать. Я у Твардовского был пятнадцать минут и больше его слушал, чем сам говорил. Во все уши слушал. Хотя мое время для встречи с ним было очень ограничено. Может, те пятнадцать минут я и отрабатываю теперь всю жизнь. Кто знает…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу