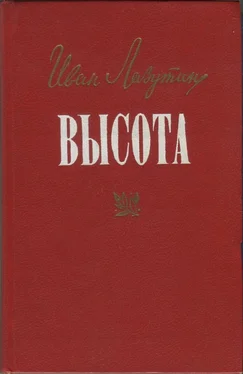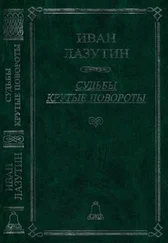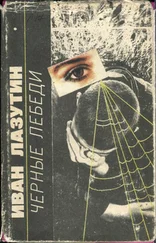Вчера заходил староста, назначенный немцами сразу же, как только фронт прошел Смоленщину. Кряжистый, с глазами цвета закисшей сыворотки мужчина лет пятидесяти. Минут десять расспрашивал меня, «Глашу Мордашкину», кто я да сколько мне лет, откуда приехала, кем в Минске работала. Хорошо, что Ниловна предупредила меня заранее, что он ровесник моего «отца», Мордашкина Ивана Ниловича. Они вместе учились в церковноприходской школе, но сызмальства враждовали. Брат Ниловны — бедняк в пятом колене, слывший среди ровесников силачом и отчаянным сорванцом, нередко своего ровесника Пашку Охрименко поколачивал. В 1931 году в ходе коллективизации семейство Охрименко было раскулачено, отца и мать Пашки сослали на Соловки, а Павел (в тот год ему уже было под сорок) сумел от ссылки улизнуть. Бросив дом и хозяйство, вместе с женой и двумя сыновьями дождливой осенней ночью как в воду канул. Только лет через семь до соседей дошел слух, что Павел Охрименко с женой и уже взрослыми сыновьями живет где-то в Донбассе, работает на угольной шахте. И каково же было удивление односельчан, когда весной сорок первого года в деревню перед пасхой заявился Павел Охрименко. Здоровый, как буйвол, красномордый, в хромовых со скрипом сапогах, в бостоновом костюме, подстриженный «под бокс» и с золотой фиксой на верхнем переднем зубе. После пасхи купил в центре села у вдовы Мироновой дом, а через неделю приехала и сама Охрименчиха, женщина (я, правда, ее не видела) пудов на семь. И, как сказала Ниловна, стали они жить-поживать да деньгу наживать. Павел хоть и вступил в колхоз (стал контролером-учетчиком в полеводческой бригаде), но жили фактически спекуляцией: гнали самогон и время от времени ездили в Москву за мануфактурой, которую потом продавали втридорога.
Кандидатуру для старосты немцы нашли весьма подходящую. Даже вернули ему когда-то отобранный у отца дом на каменном фундаменте под железом, в котором лет десять размещались детский сад и ясли. А походка!.. Нужно видеть походку этого человека. Смутил меня однажды один очень заковыристый вопрос старосты. Думаю, хотел он подловить меня.
— Как здоровье-то бати? Больше кровь горлом не идет?
В первую минуту я не знала, что и ответить, но лицом замешательства не выдала. Ответила, что не идет кровь горлом. А потом осмелела и сама спросила:
— А почему она должна идти?
— Ну как же, любил твой батюшка силой похвастаться. Однажды, это было в шестнадцатом году, когда он раненый вернулся с империалистической, после большой выпивки поспорил с мужиками, что поднимет с земли на воз десятипудовый чувал с солью.
— Ну и что, взвалил?
— Взвалил, но кровушка-то горлом пошла. С тех пор хоть медленно, но стал гореть, как лучинушка.
Перед уходом староста долго смотрел мне в глаза, потом хмыкнул и заявил:
— Что-то в говорке твоем, девонька, не чую я ничего, что отдавало бы Смоленщиной или Белоруссией. Отдает от речи твоей чем-то киевски-одесским, ты не говоришь, а поешь. Да и лицом-то пошла не в Мордашкиных.
Что я могла сказать ему на это? Оставалось только тяжело вздохнуть:
— Что же поделаешь — такую бог уродил, теперь уж не переделаешь.
При разговоре этом был Никодим Евлампиевич. Чинил у окна хомут. В конце нашего затянувшегося разговора не вытерпел, поднял голову, разгладил седые усы и сердито подытожил:
— Ты вот что, товарищ староста, не строй из себя прокурора или батюшку на исповеди. А насчет Глашиного обличья скажу тебе вот что: вся в свою бабку по материнской линии пошла, как бы перешагнула своих батюшку и матушку. Взяла от бабки красу и русскую косу.
Уже из кухни, через полуоткрытую дверь, я слышала (вся превратилась в слух), как старик Евлампиевич, надсадно кашляя, сказал старосте:
— Ты, Павел Игнатович, не забывай, что деревня наша еще с весны керосином запаслась года на два — на три. Знай также, что дома загораются не только от немецких бомб и зажигательных пуль.
Когда староста и Евлампиевич вышли из избы, Ниловна меня успокоила:
— Ты, доченька, не боись, после угрозы моего старика красного петуха пустить ему, окаянной харе, есть о чем подумать. Они, Охрименки, хоть мстительные и подлые, но ужасть какие трусливые.
Вот, родненький, снова я с тобой поговорила, чуток всплакнула и нет-нет да прислушиваюсь: как он там — спит или дает о себе знать.
Сегодня у меня три перевязки. Одна в нашей деревне, две в соседней. И все это придется делать в условиях глубокой конспирации. Так что не зря, мой милый, я ем хлебушек. А это придает мне силы и веру, что я нужна не только тебе, но и Родине. Всегда помни: женушка твоя — солдат строевой, и не из хозвзвода, а из огневого батальона.
Читать дальше