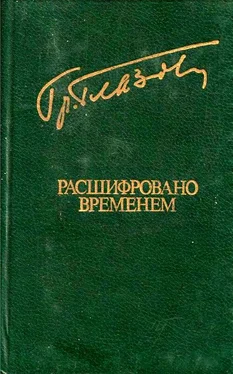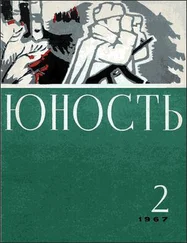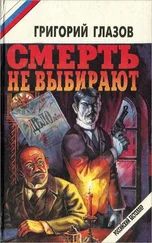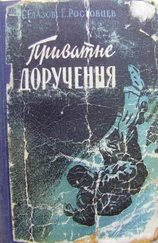Но автор вовсе не собирался ни устраивать турнир двух «интеллектуалов», ни побивать кого бы то ни было фигурой незаурядного немецкого солдата. Есть у него два объяснения такой «расстановки сил» Полноте и раздумчивости записей Конрада дает объяснение наш профессор Рукавишников: «Иногда нужно много страданий, чтоб человек понял себя до сердцевины…»
А характер записей нашего дневника открывается в разговоре Конрада и Альберта при очередном отступлении. «Интересно, рассуждают ли столько русские?» — спрашивает один. А другой отвечает: «Вряд ли… Они просто изгоняют нас со своей земли. Как видишь, тут нет темы для рассуждений».
И это в общем-то справедливо. Безоговорочная вера в правоту своего дела, в свою победу, сознание святости своего долга не побуждало к рефлексии. Нельзя также не учитывать и того, что коротенькие дневниковые записи действительно «расшифровываются» в повести временем — сегодняшними воспоминаниями и комментариями рассказчика. Именно опыт десятилетий, прошедших после войны, составляет идейный и духовный противовес исканиям, заблуждениям, прозрениям тех лет. Время помогло рассказчику понять и то, к чему пришел Конрад, и то, что ему самому казалось еще неважным в военные дни.
Ясно видно, как в раздумьях Конрада и Альберта, в сегодняшних репликах рассказчика выкристаллизовываются те идеи, которые тревожат сегодняшний мир, вставший перед угрозой новой войны и усилением неофашистских поползновений.
И это опять-таки важно для Глазова: понять не только то, что разделяло два лагеря, два стана, но и то, что послужило затем объединению людей доброй воли. Будь живы Семен и Альберт, это единение далось бы, наверное, легче. Но их нет — и эта доля выпала ныне живущим. А от них перейдет к тем, кто еще вступает в жизнь. Исполнена глубокого значения итоговая мысль, напоенная и ностальгией и оптимизмом, — мысль о том, что уходили из жизни бывшие когда-то рядом люди и образовывалась глубокая пустота. Но постепенно она зарастала, как воронка. И тогда рядом снова появлялись люди, но уже другие, не имевшие никакого понятия о тех, вместо кого они возникли, и делали то, что не успели предшественники.
Эта мысль о преемственности является едва ли не главной в современной «прядке» повести, поворачиваясь все новыми гранями. То как поведение Виктора в мирные дни. То как беседы с молодыми — дочерью Виктора Алькой и ее возлюбленным. То как мотивы поведения Наташи, вдовы Виктора, относительно судьбы перспективных разработок, оставшихся после него. То как сон, в котором вновь и вновь возникает картина гибели Марка: «Давняя явь стала сном, он преследует меня много лет».
Этот сон — и память, и сознание долга перед павшими, и завет, чтоб такое не повторилось, и ощущение своей невольной вины за то, что ты остался жить, тогда как они погибли.
Есть в повести намеренно прямые сопоставления. В обоих дневниках имеется запись от 9 мая 1944 года, нескрываемо контрастны сценки, рисующие, как провожают любимых девушек Конрад и рассказчик, и т. д. Это могло бы представиться натяжкой, не будь вся повесть столь открыто «придумана»: именно ее «искусственность» и является ее естественностью, органичностью в том круге идей, которыми был движим автор.
И не случайно повесть кончается словами о том, что автора не раз остерегали от символики: дескать, от символов попахивает притчами. «Но разве чья-то прожитая жизнь не притча для тех, кто только начинает жизнь?» Именно потому, что повесть продиктована не умиленными воспоминаниями ветерана, а раздумьями человека, уже включившего войну в цепь жизни, что в ней так силен пафос извлечения жизненных уроков, смог Глазов закончить свою повесть этими словами о притче.
Есть у меня, признаюсь, веская причина для особого отношения к этой повести. Значительная часть событий происходит в «невельском мешке», образовавшемся после прорыва нашими войсками фронта в районе Невеля, когда узкая горловина прорыва могла быть трагично «перевязана» противником. Герои повести воевали в 3-й Ударной армии, я — в соседней, 4-й Ударной. За взятие Невеля дивизии, в которой я служил, было присвоено звание Невельской. И я тоже находился в этом мешке, и наша армия тоже совершила прорыв в Прибалтику южнее 3-й Ударной и всю зиму перемолачивала там немецкие части.
Вероятно, только ветераны могут представить те уколы сердца, когда встречаешь военного земляка — того, кто воевал рядом с тобой. Но и сурова ветеранская память — она не прощает красивости, неточности, лукавства. И своей ветеранской памятью я сильно и открыто отозвался на эту честную и глубокую повесть.
Читать дальше