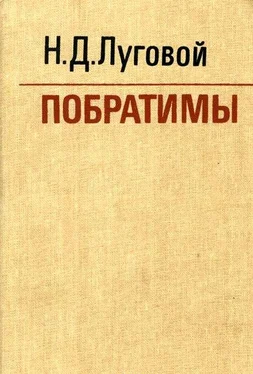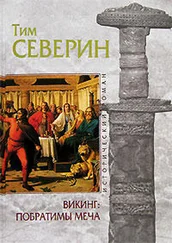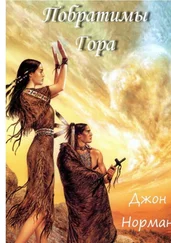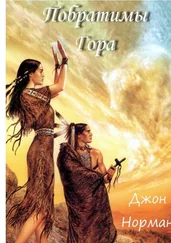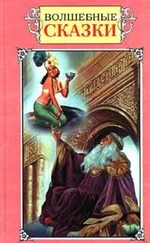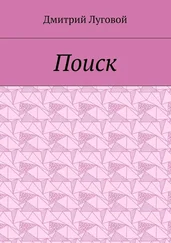Но все-таки обстоятельный разговор не получился, я досадую, что ребята смяли разговор о рельсах.
— Петр Романович! Василий Иванович! [55] Василий Иванович — кличка Ивана Андреевича Козлова в лесу.
— обращается к гостям Федоренко. — Расскажите, пожалуйста, о жизни на Большой земле. Как дела там? Мы ж два года уже оторваны. Газету и то не всегда имеем.
Ямпольский стал говорить, и я замечаю, как ребята один за другим откладывают недоеденные куски и отодвигают чашки. Вот оно что — просто все хотят слушать вести с Родины, поэтому им не до рассказов о рельсовой войне.
Секретарь говорит о тружениках тыла, снабжающих Красную Армию танками, пушками и самолетами. О том, что наша боевая техника сейчас, стала лучше немецкой и у нас ее теперь больше.
— Там, на трудовом фронте, свой героизм, свои подвиги, — говорит Петр Романович. — Есть у меня друг Петр Ткачук. Москвич. Сталеплавильщик. Попал я в Москву и в первый же вечер — к нему. Встречает старушка. Петра нет. Жены его Лены тоже нет. Что, спрашиваю, они в ночной смене? Какие теперь смены, машет рукой хозяйка. Дни и ночи безвылазно сидят на заводе. Поехал на завод. Увидел Петра в цехе и ахнул. Постаревший, худой, усталый. Зачем, говорю, так перегружаешься? А он отвечает: чтоб вам там на фронте, легче было.
Сделав паузу, секретарь заговорил вновь.
— То же и в селах, товарищи. Недолго был я в сельских районах, но где ни побывал, повсюду видел одну и ту же картину: женщина на тракторе, женщина на лобогрейке. Она и бригадир, она и председатель. Встречал и такое: одной рукой мать держит ребенка, а другой гири ворочает — хлеб на току взвешивает, государству отправляет. На одном пункте «Заготзерно» вдруг встречаю караван, какого с роду не видел: в повозку впряжены коровы, а там, где они не тянули, подпрягались и сами женщины. Вот так, друзья.
— Нелегкий хлебец! — вырывается у кого-то со вздохом.
— Конечно, нелегкий! — продолжает секретарь.
— Кому теперь легко. Не об этом речь. Главное, что есть хлеб. Есть танки. Есть пушки и пулеметы. Как посмотришь на железных дорогах — сплошным потоком идут эшелоны на фронт. Заговорил я об этом в Москве, в ЦК, куда ездил с докладом о партизанах. А мне рассказали, как все перебазировалось. Привезут в лес или в поле оборудование. Поставят. Станки крутятся. Военную продукцию выпускают. Люди тут же едят, тут и спят, тут и стены сами возводят. Делали и так. Объезжал город уполномоченный Комитета Обороны и решал: в этом клубе такую-то фабрику разместить, а в помещении этого учреждения смонтировать оборудование такого-то завода.
Рассказчик умолк. Наступившую паузу использует Александр Гира.
— Товарищ Петр Романович, — несмело обращается он. — А чо ви чулы про словацку частину, яка формуеця у вас на Великий земли?
— Словацкая бригада уже сформирована и воюет. Да еще как! Расскажу потом о ней подробно.
Гляжу на партизан — слушают затаив дыхание. Лица серьезные, взгляды сосредоточенные. Еще бы: рассказ ведь о самом дорогом — о Родине.
Но самому дослушать не удается: на поляне появляется старший лейтенант Октябрь Козин, начальник штаба третьего отряда. Вручает записку.
Наша разведка, что пошла под село Казанлы, доносит: на Караби-яйлу вышел новый отряд пехоты противника. В нем сотни три фашистов. Стараясь не мешать рассказчику, передаю записку Котельникову и шепчу ему, чтоб послал в помощь Дегтяреву за Суат четвертый отряд.
Но, вижу, начштаба не спешит: ему тоже хочется послушать о Большой земле. Не выдерживает и Козин. Когда секретарь обкома кончил свой рассказ, он подошел к нему:
— Петр Романович! Разрешите и мне сказать пару слов. Я об этом же. Мне довелось тоже побывать на Большой земле.
Получив разрешение, Козин присаживается и своим рассказом приоткрывает нам еще одну сторону трудной жизни на Большой земле.
В госпитале, когда раны уже затянулись, ему дали двухнедельный отпуск. Пришелся он кстати. С фронта домой вернулся отец. Он — человек бывалый. И в ссылках, и на каторгах был. В гражданскую войну нюхал порох. Не усидел в кабинете начальника артиллерийского училища и пробился на фронт. А тут вдруг — дома. Причину мать не сообщает. Что-то неладно. И лейтенант Козин махнул в Оренбург, куда из Полтавы эвакуировалась его семья.
— Приехал и вижу, — говорит Козин, — не напрасно тревожился. Отец сидит в темных очках. Почти совсем слепой. Полуглухой. Весь израненный.
Осмотрелся я и оторопел. Живут в сырой и темной клетушке, спят на земляном полу. Мать — худенькая-худенькая. Брат Сашка — в больнице с дистрофией, другой брат, Максим, и сестренки — тоже одни кости да кожа. Лишь отец полный. Но присмотрелся к нему, а он опухший. Батя, говорю, что ты сдался, семья ведь гибнет! Ты в райком-то ходил? «Нет, — отвечает он, — не ходил. И не пойду». Почему? «Что? Подмоги просить? — отвечает. — Кричать, что семья гибнет? А что, райком с неба манну снимет? Страна борется. Враг на Волге. Всему народу вон как трудно. А ты, старый большевик Аскольд Козин, хочешь без трудностей? Так скажет райком. И прав будет. А станет помогать — поступит неправильно. Он может только у голодающего урезать, а мне дать. А я такой помощи не хочу. Я ведь из той школы коммунистов, которая носит высокое звание старой гвардии. Создавал и обучал ее Ленин. А Ильич никогда никаких привилегий не терпел». Вот что услышал я от отца.
Читать дальше