Стекла начинают голубеть, проснувшееся небо заглядывает в комнату, в нее входит утро.
Светланка подает Кириллу шлепанцы, открывает шкаф. Достает пижаму. У пижамы рукава. В шкафу, видит Кирилл, рубашки, они с рукавами. И пиджаки с опущенными вниз рукавами. Светлана помогает ему одеться.
— Вот и готово, — говорит она.
— Готово, Светланка, — подтверждает Кирилл.
В окне виден городской парк. Он тянется вдоль реки, и вершинами вниз, как зубцы пилы, висят в ней деревья. Будто шли они вдоль берега, оступились и упали в воду, и когда вода морщится, кажется, что пила пришла в движение и пилит, пилит и будет пилить, пока не дойдет до дна.
Светланка и Кирилл идут в ванную.
Он возвращается умытый.
Светланка смотрит на часы.
— Поздно как! Мама давно ушла на работу. Она рано уходит. Сейчас покормлю тебя и тоже побегу. В школу не опоздать бы…
Из столовой доносится приглушенная музыка приемника. И письменный стол с лампой под абажуром, и ряды книг в шкафу с потускневшими следами царапин, и дорожка, ведущая из комнаты в коридор, и трюмо у стены, словно из другой, не его жизни. Он подходит к зеркалу: какое худое, утомленное у него лицо. Удивился даже. Лоб, щеки, подбородок как синими оспинами покрыты въевшейся в кожу металлической пылью. В зеркале отражена большая фотография — он, смеющийся. Портрет висит на противоположной стене. Вспомнил: снимался перед самой войной. И он одновременно видит себя в зеркале и на фотографии: до чего разные!..
Кирилл вдруг почувствовал тесноту комнат, почувствовал, что ему не хватает пространства, как, случается, не хватает воздуха.
— И я, Светланка, пойду, — говорит он. — Прогуляюсь.
Он выходит в город.
«Отдыхай, Кирилл…» Пусть бы не говорили ему этого жестокого слова!
Бывало, отдых после месяцев работы, когда и быстрое течение времени не замечалось, пробуждал в нем ощущение покоя, и окружающее воспринималось сквозь теплый и сглаживающий свет солнца: все неприятное и тревожное было далеко позади, далеко впереди, но не с ним, не рядом. Теперь он и слышать не может, когда ему говорят: отдыхай. Слово это выражает самое для него страшное, самое ненавистное — обреченность. Пусть же не говорят ему этого! «Человеку нужна сама жизнь, а не эхо ее», — не смиряется оставшаяся в нем сила. Кирилл верит только в неоспоримую истину поступков.
Неделю назад профессор сказал:
— Ну, дружище, все опасное миновало. Медицина вам, конечно, помогла, но еще больше вы сами помогли себе. Да, да, не спорьте, — говорил он тоном, не допускавшим возражений, как будто Кирилл спорил. — В вашу историю болезни наряду со сведениями о группе и свертываемости крови, о сердце надо бы записать и о железном характере. Это бывает не менее важно, чем железное сердце. Да, да, — смеялся профессор, и вокруг глаз проступали острые лучики.
Недавно Кириллу назначили пенсию. А вчера утром прибежали с вестью соседи:
— Поздравляем! Вместе с вами радуемся… Разве не слышали по радио? Указ…
Зазвонил телефон. Кирилл узнал голос Ивана Петровича:
— С высокой правительственной наградой тебя, Кирилл…
А через полчаса принесли газеты, и Кирилл прочел Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении ему звания Героя Советского Союза.
Жизнь продолжается…
Когда он думает о себе, как о ком-то другом, доводы, приходящие на ум, кажутся ему убедительнее.
«Постой, Кирилл, — мысленно произносит он и в лад словам качает головой. — Послушай. Во всех обстоятельствах нужно мужество, ты понимаешь это. И мужество — это поступки, а не рассуждения о нем…» Да, — отвечает он себе. Но что в его положении делать с этим мужеством? «Жить». И снова: «Жить!» А что значит — жить? Пенсия? «И пенсия тоже. Но разве пенсия освобождает тебя от обязанности коммуниста?» Он ловит себя на том, что иногда говорит голосом Ивашкевича. Черт возьми, не связали же его пенсией, как веревкой: сиди и не рыпайся… «И ты понял это. Еще там, в партизанском лагере, понял. Теперь опять?..»
Не совсем. Иногда и набегают непрошеные мысли. Да и то ведь, он пока все еще в стороне. От настоящей жизни в стороне. Вот в чем дело. Конечно, у него появились надежды. Они возникли потому, что очень ему нужны… И сквозь боль, еще заполнявшую все его существо, уже прокладывали себе путь эти надежды, которые утверждают человека в жизни, несмотря ни на что. «Сбудутся, Кирилл, твои надежды. Непременно сбудутся. У них много оснований для этого. И брось!..»
Кирилл улыбается. В первый раз сказал он самому себе: «И брось!..»
Читать дальше
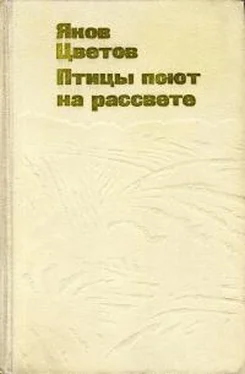





![София Баюн - Механические птицы не поют [СИ]](/books/394478/sofiya-bayun-mehanicheskie-pticy-ne-poyut-si-thumb.webp)





