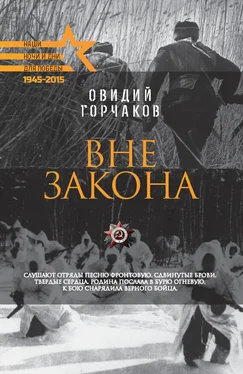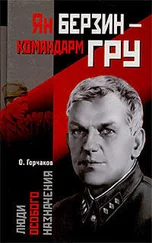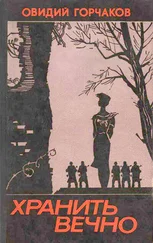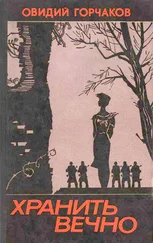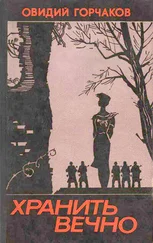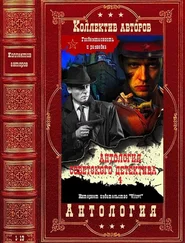– Теперь? Теперь я, наверно, гораздо ближе к тому, чтобы стать марксистом. Немецкий тыл для меня, можно сказать, курсами усовершенствования, высшей партшколой стал. Конечно, эти три месяца я провел не так, как хотел бы: на первой же засаде ранили. Но я никогда не чувствовал себя оторванным от друзей – там, у Бажукова, и у вас тут, в Хачинском лесу…
Мне припомнился рассказ Щелкунова о Смирнове, и мне стало неловко, стыдно даже: как плохо разбираемся мы в людях!
А Смирнов подбросил горсть сухих веток в костер и продолжал:
– Теперь-то я понял: никаким книжным знанием нельзя заменить знание жизни. Наше с тобой поколение не знало царизма, революции, не знало ни разрухи, ни голода. Только читали мы обо всем этом в книгах, учебниках. Теперь мы совсем по-другому понимаем такие «отвлеченные понятия», как «война», «классовая борьба», «разруха», «советская власть» и «фашизм». Пожалуй, не все мы еще до конца поняли, но зато очень многое прочувствовали. Вообще это замечательно! – говорил, все больше оживляясь, Смирнов. – Наше поколение… Такой дружбы между людьми, такой любви к родине не знало до нас ни одно человеческое поколение. Потому и героизм, душевная красота – естественное состояние нашей молодежи.
– Уж очень у тебя высокопарно получается, – сказал я, чувствуя себя неловко. – Как в передовице…
Я встал и принялся собирать сухие сучки в траве, прислушиваясь к словам Смирнова.
– Ты понимаешь, как это здорово? – все сильней распалялся Смирнов. – Взять целое поколение и лепить его по образцу такого великана, как Ленин! Ты представляешь, как Ленину хотелось бы взглянуть на нас, хотя бы одним глазком, хотя бы на минутку!.. Велик почет, но велика и ответственность.
Смирнову ответил взрыв звонкого молодого смеха. Кто-то крикнул в лагере, очередью грянули хлопки, и снова зазвенел в молчании леса задорный молодой смех.
– В «жучка» играют, – улыбнулся я, бросая в костер охапку валежника и снова садясь.
Слова Смирнова взволновали меня. Хорошо, черт побери, говорит этот паренек, складно! Не часто приходится в отряде говорить об отвлеченных вещах. Русский человек чужд многоречивости. В чистом глубоком чувстве есть нечто такое, что заставляет большинство из нас ревниво скрывать, таить его в самом сокровенном уголке души. О любви и ненависти очень скупо говорят в отряде. За любовь лучше всего говорит сейчас ненависть, а за ненависть – трупы врагов, обгорелые скелеты вагонов «Дойче рейхсбана», паровозов, машин. Говорят на предельно выразительном, чисто партизанском языке. Этим языком партизаны наши владеют в совершенстве.
– Послушай! – сказал я, волнуясь. – Вот ты говоришь о дружбе, о патриотизме – все это очень хорошо. А что ты скажешь о предателях – о полицаях и старостах, о тех дезертирах-приймаках, которые все еще сиднем сидят в деревнях?
– Смотри! – Смирнов выхватил из костра догоревший сучок и, подув на него, погасил крохотный огонек. – Вот тебе патриотизм в кавычках. А вот… – Смирнов подул в красные угли и быстро отпрянул от взметнувшегося пламени, – вот тебе настоящий патриотизм! Я об этом много думал, – сказал он, помолчав, видя, что меня не удовлетворяет его ответ. – Теневых сторон еще много, но чем выше солнце коммунизма, тем меньше тени… И не всякая, верно, сталь способна принимать закалку. А у нас здесь, где температура закалки особенно высокая, процент брака выше, чем на любом другом участке военного горнила. Вражеские недобитки, кулачье, уголовники, да об этом гнилье и говорить не хочется! Погляди лучше, какой народ у нас в бригаде!
Почти такими же словами говорил со мной Богомаз…
– И среди нас есть гнилье, – проговорил я. Я старался подавить неожиданно охватившее меня волнение. Какие честные и смелые у него глаза! Смирнов поймет меня, поймет, поможет, не выдаст!.. Глаза наши встретились, и я сказал ему: – Самсонов убил Богомаза. Самсонов убил Надю Колесникову, убил Кузенкова…
Когда я спохватился, было уже поздно. Смирнов задавал вопросы, переспрашивал, вникал в подробности, заставил меня повторить историю гибели Богомаза. Я рассказал Смирнову о том самом страшном для меня времени, когда Покатило и я сделали роковой выбор: когда он склонился перед силой приказа, а я остался один – один со своими сомнениями и страхами, один против сокрушительной силы приказа, против неограниченной власти командира, против мнения обманутого коллектива. С ужасом ждал я тогда, что этот могучий союз вот-вот раздавит меня и предаст мое имя позору. Но за последний месяц многое, я чувствовал, изменилось: наши люди стали прозревать, обо многом догадываться, дело шло к развязке. Самарин, Полевой, Щелкунов – этих нетерпимых к несправедливости людей не сломит никакая самсоновщина. Минут через десять Смирнов знал все о Самсонове. И на душе моей стало легче, чище и спокойнее.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу