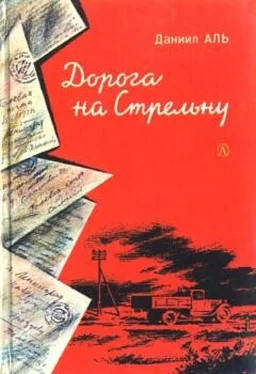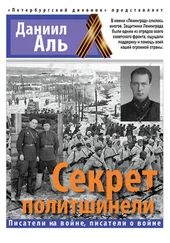— Того, что в роте нет убитых, я никогда не писал и не говорил.
Голос Федотова звучал глухо, но агрессивные нотки в нем исчезли.
— Я сказал, что все в строю, — это другое дело.
— Разумеется, другое. На бумаге у вас все в строю!
— И на бумаге, — подтвердил Федотов.
— Напишите сейчас же объяснение. — Я снова сел и протянул Федотову раскрытый блокнот.
— Уже написано, — буркнул в ответ Федотов.
— Обеспокоились заблаговременно?! Что же, покажите.
Федотов отошёл к койке, вытянул из-под неё чёрный железный сундучок, скинул с замочной петли тяжёлый накладной угольник и открыл крышку. Я с любопытством следил за ним. «Какое такое объяснение написал он, предчувствуя заранее, что придётся отвечать за свои странные донесения? Видать, он не так прост, этот махинатор», — подумал я.
Федотов встал. В каждой руке он держал по пачке каких-то бумажек. Одна пачка была явно толще другой.
— Вот, ознакомьтесь, товарищ подполковник. Здесь все сказано… А мне разрешите отлучиться для проверки готовности роты к бою. Затишье тут у нас скоро кончится. — Федотов посмотрел на часы.
— Идите, — сказал я. — Но постарайтесь через десять минут возвратиться сюда.
— Слушаюсь, — ответил Федотов и скрылся за плащ-палаткой, закрывавшей вход.
Я взял в руки листок, лежавший в большой пачке сверху, надел очки и прочитал написанное чётким и ровным почерком:
Заявление
Командиру роты капитану Федотову
В случае моей гибели прошу положить моё тело перед нашим окопом лицом к врагу и в полной форме бойца, чтобы и после смерти я продолжал воевать с фашизмом, защищать родной Ленинград. Это моё заявление прошу огласить всему составу роты.
Красноармеец Л. Маньков.
Я ещё и ещё раз перечитывал заявление, не в силах оторвать взгляд от его ровных строчек. Я живо представил себе написавшего его красноармейца. В телогрейке, в шапке-ушанке, с автоматом на груди, он стоял здесь, в этой самой землянке, перед этим столом, и протягивал своему командиру этот самый клочок бумаги. Я представил его себе молодым, сильным, с открытым и почему-то весёлым лицом… Я представил его себе я другим, мёртвым, лежащим на снегу, в бруствере перед окопом, лицом к врагу…
«Убиты, но в строю…» Слова эти, ещё недавно звучавшие как подозрительная выдумка, наполнились теперь своим истинным смыслом.
Я взял из той же пачки ещё одно заявление.
На половине листа школьной тетради, разграфлённого в косую линейку, было написано крупным, корявым почерком:
Командиру роты и всем друзьям-товарищам, от меня, нижеследующего бойца. После моей гибели смертью храбрых, на защите славного города Ленинграда, прошу меня положить по-над нашим окопом для пользы его укрепления. Но только чтобы тоже лицом к врагу, как положено русскому солдату. И тоже в полной форме, в том числе в сапогах БУ [2]. А валенки мои прошу отдать Павлу Иванову — моему земляку. Писал самолично по доброй воле, в чем и подписуюсь своею рукою.
Кузьма Феофанов.
Следующим было заявление Павла Иванова… Я перевёл взгляд на пачку заявлений, которая была потоньше первой. И на листке, лежавшем сверху, различил подпись: «Федотов».
Командир роты в своём заявлении писал:
Замполиту, а также командиру 1-го взвода
лейтенанту т. Симакову
В случае моей смерти прошу положить моё тело в бруствер. Повторяю приказ — стоять насмерть! Назад ни шагу!..
Я читал эти необычные заявления одно за другим. Разные имена, разные фамилии — русские, казахские, грузинские, украинские, еврейские, латышские… Разные почерка. Разный стиль…
Командир роты был прав. В строю находилось сто одиннадцать бойцов. Из них живых — тридцать девять, мёртвых — семьдесят два.
Перед простотой и значением открывшегося прежние подозрения показались ничтожными, жалкими. Мне захотелось выбежать из землянки, разыскать капитана Федотова, пожать ему руку и попросить прощения за мою невольную бестактность, за несправедливые подозрения. Хотелось высказать бойцам этой удивительной роты самые сердечные слова восхищения их мужеством и стойкостью…
Да, как человек я порывался так поступить. Но именно так я поступить и не мог. Я ведь был не просто человеком, не частным лицом. Я был представителем штаба армии. В качестве такового я не имел права ни на один из этих поступков. Каждый из них выражал бы одобрительное отношение к тому, что я узнал. Притом не только моё, но и представляемой мною инстанции. Но выражать одобрение или неодобрение командования армии, а тем более командующего фронтом, которому тоже предстояло узнать о происходящем здесь, я, разумеется, не мог.
Читать дальше