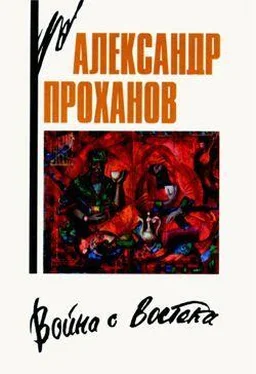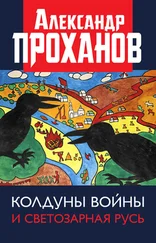Меднолицый великан отер о землю клинок. Отошел и кинул под дерево окровавленный ком. Потный мерин с узорной уздечкой с ужасом смотрел на липкий, осыпанный пылью шмоток.
Оскопленного, окровавленного, не приходящего в чувство, его привязали к сколоченным бревнам. Погрузили на телегу. В окружении всадников скрипучая арба, запряженная низкорослой лошадью, покатила по каменному спуску к реке. Там его сгрузили с арбы. В несколько рук, хватаясь за бревна, снесли к воде. Плюхнули плот в мелководье. Оттолкнули. И плосколицый прислужник, взвизгнув, метнул в него горсть песка и гальки.
Плот с окровавленным, безжизненным телом медленно, кругами, потянуло по зеленоватой воде к середине. Стало сносить вниз по течению, по серебристым омутам и заводям. А всадники, взбираясь рысью на гору, все оглядывались на медленно уплывающий плот.
Плот вяло вытянуло на стремя, закрутило среди ветряных блесков, рыжих откосов, белых, поникших тростников. Бревна колыхались, хлюпали. На них налетал, нависал седой лунь, всматривался рыжим, изумленным зрачком. Рядом плюхала тяжелая рыбина. Власов без чувств лежал на бревнах, омываемый студеным потоком, и красные нити истекали из него, длинно тянулись, волновались в осенней реке.
Холодная вода потока, силы молодого, здорового тела, не желавшего умирать, сжали, стиснули открытую рану в паху. Кровь свертывалась. Опять прорывалась наружу. И снова холод, прозрачный поток, падающий из поднебесья ветер остужали, запечатывали рассеченные сосуды.
Он на какой-то миг приходил в себя. Не понимал, где он. Мычал, стонал. Снова впадал в забытье, спасаясь в беспамятстве в эти первые, самые больные и страшные часы своего несчастья.
И вдруг очнулся, открыл глаза.
Пустое высокое небо. Речной разлив. Страшная, пульсирующая боль в паху. Готовность впасть в забытье. Близкое, ужасающее, последнее видение: меднолобый палач с клинком иссекает у него сердцевину.
Он ровно, громко, пока хватало дыхания, застонал, превращая стон сначала в крик, а потом в булькающий, затихающий клекот. Он понял, осознал происшедшее. Его не убили. Его изуродовали и кинули в реку на посрамление. И теперь, в своем сраме, он, живой, плывет, и мир с отвращением взирает на него глазом белесой птицы, зрачком пронырнувшей рыбы, синевой пустынных небес.
– О-о-о… За что?! – вымолвил он, отрывая от бревен голову, глядя вдоль слипшейся рубахи на свои привязанные голые ноги с распахнутой раной. – Куда-а-а?…
Веревки, прикрутившие его руки к бревну, размокли, раскисли. С трудом, напрягая живот, усиливая этим движением боль, начиная кричать, он освободил сначала одну, а потом и другую руку. Стал медленно стаскивать с себя рубаху. Стянул ее с дрожащего тела. Увидел на груди порез, нанесенный кинжалом, когда распарывали куртку. Осторожно протягивая ком рубахи к ногам, прикрыл ею рану. Подоткнул рукава под бедра, чтобы рубаху не смыло водой.
Ему казалось, в ране идет непрерывное шевеление. Сквозь нее выползают внутренности, сосуды, тянутся, полощутся за плотом, и рыбы, привлеченные кровью, лакомятся, сжирают его живое тело.
Но река была пустынна. Гора с кишлаком скрылась за другими горами и на воду вокруг его головы ложились перья чистого ветра, позванивали, хлопали бревна.
Он находился на грани яви и обморока. Бредил вслух. Бред его облекался в видения, имел форму огромной колонны. Это была колонна боли, исходящей из его живота. Была болью, и образом, и поднебесным гулом. Была шевелящимся угрюмым столбом. В этом столбе двигались и ворочались танки. Катили броневики. Стреляли батареи орудий. Вертолеты заходили в пике, спуская с подвесок ракеты. Бежали десантные группы. Громыхали гусеницы саперных машин и бульдозеров. Взрывались «наливники». И все окутывалось гарью и дымом, наполняло клубами столб. И в этих клубах, венчая колонну, мчался всадник в чалме, с яростным бледным лицом. Воздевал кривой меч среди лазурных мечетей. Направлял на него, лежащего, свой галоп, свой удар клинка. Кривая разящая сталь дотягивалась до него, вторгалась в пах.
С криком боли он потерял сознание.
Очнулся и почти не почувствовал боли – лишь слабое, ровное, уходящее в глубину страдание. В глубину не его измученного, обессиленного, окоченелого тела, а в какую-то иную глубь, куда уходила и исчезала его мука, и его память, и его живое тепло. Тепла становилось меньше и меньше. Он растворялся, таял, вымывался этой вечерней зеленоватой рекой, этим холодом, пустыми, прозрачными небесами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу