Наймушин сосал папиросу — за день накурился до обалдения. Шинель внакидку. На дворе теплынь, благодать, в землянке из-под пола тянет знобкой сыростью. Недальний разрыв снаряда — и по стене зашуршала, заструилась осыпавшаяся земля. За этим разрывом Наймушин не услышал, как стукнула дверь и в блиндаж кто-то вошел. Услышал шаги уже возле себя и женский голос:
— Что ж ты не приветствуешь гостей?
Он поднял голову: Рита. Смотрел на ее высокую грудь, на крашеные, сердечком, губы, на зеленые с прожелтью глаза и чувствовал: произнесенное этой молодой, тревожащей женщиной «ты» как бы усадило ее рядом с ним на койку. От него теперь зависит, как с ней поступить. И он, думая: «К чему это?» — дернул подбородком и сказал:
— Здравствуй. Рад тебе.
Не то чтобы он очень уж рад был, но что-то в незваном приходе было приятное. Одному плохо! Обведя взглядом землянку, Рита сказала:
— Пожаловала! Не дождалась твоего приглашения… Никого?
Он проследил за ее взглядом: койка Орлова не тронута, по окопам комиссар лазает, даже ночует в ротах. А Папашенко вмиг испарился: ординарцы любят испаряться в подобных ситуациях. Наймушин вмял окурок в пепельницу и сказал:
— Никого.
Улыбаясь и хорошея, она села к нему на колени, обняла за шею и, как ему показалось, привычным, рассчитанным движением, откинулась. И он, отмечая эту рассчитанность и думая: «Зачем, к чему?» — наклонился над женщиной.
* * *
Опять разорвался снаряд, и с потолка посыпалась, зашуршала земля. Рита достала из кармашка гимнастерки расческу, зеркальце:
— Ох, какая я расхристанная!
Она причесывалась, подкрашивала помадой размазанные губы. Наймушин, встав с постели, застегивал ворот.
— Милый, у тебя усы пахнут табаком.
Он ничего не ответил. Она повернулась к нему, спросила:
— Тебе было хорошо? Он пожал плечами.
— Ты о чем-то жалеешь?
Он снова пожал плечами. Тогда она поднялась и встала рядом:
— Ты меня не любишь? Мне уйти?
— Уйди, — сказал он.
— Но больше я к тебе не приду.
— Не приходи.
Она заплакала, смывая пудру со щек и краску с ресниц, сразу делаясь жалкой, обиженной. Но ему не было жаль ни ее, ни себя. Почему-то именно сейчас вспомнилась Наташа и все, что с ней было, и та тягостность, которую он испытывал утром и днем совсем по иному поводу, овладела им. Тягостность и опустошенность. Одному плохо, а так еще хуже. Женщина эта, Рита, многоопытна, испорчена, но она ни в чем не виновата перед тобой, не надо ее обижать. Виноват ты сам, Василий Наймушин, изрядно грязи стало поднабираться в твоей жизни, так-то. И жестокости. Ну не жестокости — черствости.
Рита привычно вскинула глаза с поволокой и отстучала высокими каблуками сапожек по ступенькам. Он не глядел ей вслед, крутил усики, мрачный, нахохлившийся.
Сергей пришел с поста в землянку и увидел на нарах новенького: на погонах ефрейторская лычка, лет тридцати, серые глаза, русый. Никаких, так сказать, особых примет. Разве что пробор в волосах на правой стороне, обычно бывает на левой. Впрочем, еще примета: когда улыбнулся, обнаружилась щербинка во рту: не хватало переднего зуба. Сергей ответно улыбнулся.
— Добрый день. Ты кто? — сказал новенький, ткнув в Сергея вытянутым средним пальцем и пришепетывая. — Я Быков.
— А я Пахомцев.
— Будем знакомы. — И он протянул Сергею узкую твердую кисть.
Сабиров сказал:
— Товарищ Быков в отделение к Журавлеву назначен. Автоматчиком. А по партийной линии товарищ Быков — начальство, новый парторг. Вместо Караханова. Так что, Пахомыч, уважай его.
— Сержант шутит, — сказал Быков.
— Пошто шучу?
— Шутишь! А если всерьез: уважают не должность, а дела. Вот и постараюсь заработать уважение делами. Якши, сержант?
— Якши! — сказал Сабиров.
А Сергей думал: «Рядовой автоматчик — партийное начальство? Будет хлебать из солдатского котелка, таскать на шее автомат, постель — вместе со всеми, на нарах, на ветках. Ничего себе начальство! И почему его выбрали парторгом? Что в нем особенного? Ничего нет особенного».
Сержант Журавлев, нависая из угла глыбой, спросил Быкова:
— Михаил Николаевич, чегой-то ты про наступление ни гугу. Как там, в высших штабах и тылах-то?
— В штабах не бывал. А в тылу пришлось. Добирался из политотдела, видел: технику гонят, живую силу. Подтягиваются резервы! По всему — скоро наступление.
Да солдаты знали это и сами. Потемну на дорогах и просеках скрежетали траки, гудели моторы, топали сотни подошв. Леса начинялись танками, самоходками, тягачами, автомашинами с пушками и минометами и, конечно, матушкой-пехотой. Матушка, мгновенно обживаясь, рубила шалаши, дымила походными кухнями. Наши бомбардировщики каждую ночь летали бомбить железнодорожные узлы, подъездные пути, аэродромы. Далеко за линией фронта в багровом зареве пожаров сгорала летняя ночь.
Читать дальше
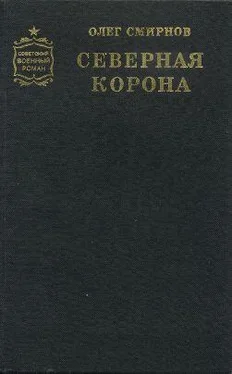
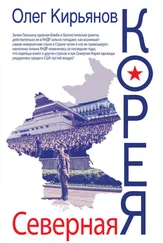






![Влада Ольховская - «Северная корона» [СИ]](/books/408694/vlada-olhovskaya-severnaya-korona-si-thumb.webp)


