— Ну и лунища, — сказал Шарлапов. — А не завернуть ли ко мне на КП, Григорий Семенович?
— На минутку, пожалуй.
В блиндаже командира полка Дугинец сел на табурет, пригладил редкие седеющие волосы, расстегнул крючок кителя:
— Ф-фу, хорошо!
— Что хорошо? — спросил Шарлапов, усаживаясь напротив.
— Жить хорошо! Двигаться, дышать, говорить, на тебя, вояка, любоваться!
— А-а… Ну а чем для полноты бытия прикажешь угощать, Григорий Семенович? Водочкой, коньячком?
— Я уже тебе толковал: упаси боже.
— Кофе?
— Упаси боже. И после водочки, и после кофе маюсь бессонницей. Разве чайку, и то пожиже.
Им принесли чай, печенье. Дугинец держал стакан, то отставляя мизинец, то убирая. Усмехнулся:
— В детстве дед и бабка по матери, а они у меня из сельских учителей, боролись за мою душу. Дед учил: когда держишь стакан, отставляй мизинец, так все интеллигенты поступают. Бабка свое: поджимай мизинец, это признак благовоспитанности. И вот плоды: иногда следую заветам деда, иногда бабки!
Шарлапов слушал его и размышлял: «Простодушие, непосредственность… Не наигранное ли это? Да нет, я же знаю Григория Дугинца давно. Выходит, он не изменился».
И чтобы осадить вновь поднимающуюся зависть, спросил:
— Еще стаканчик?
— Благодарю. Точка, — сказал Дугинец и потянулся за телефонной трубкой.
Пока вызывали артполк, Шарлапов рассматривал Дугинца украдкой. Конечно, немного сдал: сутулится, плешина просвечивает, раненая рука не действует. Но голос по-прежнему сильный, командирский, глаза молодые, с искоркой. И шутит. Дух остался тот же, характер тот же.
Шарлапов допил чай, Дугинец положил телефонную трубку.
— Ну, Роман Прохорович, мне пора… Итак, обрати внимание на траншейную службу. Чтоб ее несли бдительно, как никогда. Особенно перед рассветом. Немцы догадываются, что наше наступление не за горами. Будут лезть за «языком». Уяснил?
— Так точно!
— В таком разе откланиваюсь. Зою Власовну поцелуй за меня в левую щечку!
— В обе щечки поцелую, — сказал Шарлапов и про себя отметил: и шутить не разучился.
Журавлева напугал живой генерал, Рубинчика напугал живой немец.
Рубинчик отправился в место, прозванное ротными остряками «кабинетом задумчивости». И вдруг увидел: из кустов выходит немец.
Александр Абрамович впоследствии так рассказывал об этом:
— Во френчике, без пилотки, белобрысенький, идет не спеша, прогулочно. Абсолютно один! Что я пережил — ужас! Не успел опомниться, как из кустиков вышли наши в маскхалатах, с автоматами. Дивизионные разведчики. Вели «языка». Он шел впереди, а они отстали… Слушатели смеялись, Рубинчик был серьезным;
— Вам смешочки, а моей нервной системе каково? Ужас!
— В «кабинет задумчивости» так и не попал? — уточнил Пощалыгин,
— Пропало желание, — сказал Рубинчик и внезапно сорвался, побежал по ходу сообщения.
Едва вернулся — вторично побежал, расстегивая на ходу ремень. И в третий раз — то же.
— Медвежья болезнь, — определил Пощалыгин.
— Умоляю вас: не фантазируйте, — сказал Рубинчик.
Медвежья не медвежья, а меры принимать нужно. Отделение заступало на батальонную кухню (бойцов хозвзвода, работавших на кухне, отправили на заготовку сена), и нельзя было лишать Рубинчика желанной для солдата возможности попасть поближе к котлу. Сержант Сабиров отправил его к военфельдшеру, тот снабдил порошками. Рубинчик глотал их каждые два часа и каждые два часа топал в «кабинет задумчивости».
Но накануне наряда — как рукой сняло. Медицина!
Заступали вечером. Побрились, помылись, пришили чистые подворотнички, наваксили обувь — старшина Гукасян не смог придраться. Шли ходко, ведомые сержантом Сабировым. Он придерживался телефонного провода, провисавшего на деревьях и шестах. У Пощалыгина был свой ориентир — запах дымка, который он ловил раздувающимися ноздрями.
— Рвем когти, как на свиданку к милахе, — сказал Пощалыгин, стараясь не отставать от Сабирова.
— А то! — сказал Курицын. — На сегодняшний день кухня и есть милаха!
Косые тени, перистые облака, веерные лучи опустившегося солнца, фиолетовые сосняки, овраги, где полощется туман. Овраги, овраги… Вся Смоленщина исполосована ими. В овраге размещалась и батальонная кухня.
Отделение встретил старший лейтенант Бабич. Щурясь, он по-начальственному строго оглядывал солдат, объяснял им обязанности рабочих по кухне, хмурился, но было очевидно: интендант — добряк, а заглавный тут — Недосекин. Новый повар, устойчиво, по-хозяйски расставив ноги, стоял рядом. Когда Бабич повернулся к нему: «Действуйте, товарищ Недосекин», — повар веско сказал:
Читать дальше
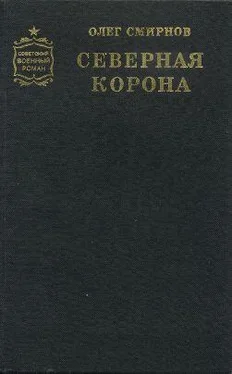
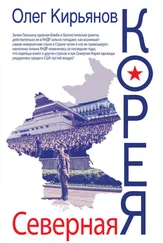






![Влада Ольховская - «Северная корона» [СИ]](/books/408694/vlada-olhovskaya-severnaya-korona-si-thumb.webp)


