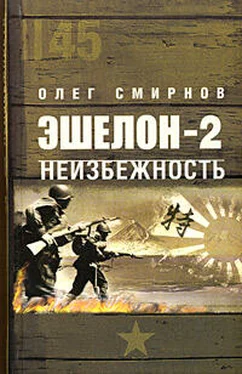Замполит Трушин спросил: "Товарищи, вопросы есть?" Несколько голосов бодро проорало: "Нету!" Колбаковский с облегчением выдохнул, вытер пот со лба. Трушин сказал: "Тогда поблагодарим товарища Колбаковского", — и раздались аплодисменты, которые и не снились певцу-солисту ефрейтору Егорше Свиридову. А вообще-то действительно полезно узнать подробней о Монголии, хотя это была, собственно, и не беседа, а громкая ч и тк а. Наш ведь союзник и друг, вторая после нас социалистическая страна…
Роты расходились по своим местам. До построения солдаты торопливо дымили махорочными самокрутками и папиросами-патрончиками. Ветерок посвистывал, как тарбаган. Сухо, словно царапаясь былинкой о былинку, шуршали травы. Взошедшая луна была разделена пополам тучевой полоской, быстро сужаясь, полоска стала похожа на тонкий кавказский ремешок, будто луна подпоясана на манер ростовских армян, — они любили такие ремешки да еще с серебряным набором. А женщины-армянки в Росстове любили носить темные шелковые шали. Мама тоже носила, хотя была русская. Приехавшая в Ростов из Москвы в тридцать восьмом году вместе с сыном, нареченным — Петр. Был такой архаровец Петр Глушков, он же отличник учебы. Старшина повел роту, а я направился к Тру шипу: тот о чем-то разговаривал с командиром минометной роты.
Я сказал:
— Аида к нам спать, Федор! А?
— Не возражаю. Только вопрос: не надоем роте лейтенанта Глушкова?
— Не надоешь.
— Будь по-твоему… За жизнь поговорим?
Я кивнул. Можно и поговорить, мы давненько не философствовали как следует. Но главное — просто побыть с Федором. Это же мой фронтовой друг. Цапались с ним? Бывало. Да забылось нынче. А помнит ли он? Думаю: нет.
Мы присели на нашу не очень чтобы взбитую пышную постель, во всяком случае, мослами расчудесно ощущаешь твердь земного шара. Сапоги долой, гимнастерки и штаны долой! Правда, ночью может пробрать свежестью пустыни или полупустыни, о которых столь выразительно читал давеча старшина Колбаковский. Трушин повернулся ко мне спиной — нижняя рубаха измята, словно в рубцах от нагайки. По-видимому, и у меня такая же, хотя нагайками пас никто не стегал. Жизнь, верно, иногда охаживала, но больше по голове и не плеткой — обушком. Да ладно, что об этом? Кто считает твои синяки и шишки, а также раны? Сам считай, не передоверяй другим.
— Подымим, Федюня?
Пошучивая, я ожидал, что в ответ Трушин обзовет меня Петюней, он же сказал:
— Подымим, ветродуй!
Вот это да! Так меня обзывал в Восточной Пруссии старшина Колбаковский, когда я пребывал взводным. Нынче я — подымай выше — ротный, а вот с чего Трушин употребил это обижавшее меня словцо? Или острит? Я шучу, и он шутит? Странноватая шуточка, товарищ гвардии старший лейтенант. Я подрастерялся.
И не то что обиделся, но как-то неприятно заныло сердце, хотя и чуть-чуть. Федор этого не заметил, сказал ворчливо-добродушно:
— Ну, вытаскивай. Твоих закурим.
Протянул ему пачку.
— А чьи они?
— Мои.
— Да не про то я! Трофейные пли наши, советские?
— Наши. Дрянь вонючая.
— Как у тебя язык поворачивается! Говорить о советских папиросах — дрянь!
В сумраке при затяжке огонек чуть освещает лицо Трушина, но выражения не разобрать. Зато интонацию разбираю, не шутейная, раздраженная.
— Ты что, Федор, очумел?
— Не я — ты очумел! Мы патриоты или нет?
— Я патриот. Не меньше, чем ты. А папиросы все-таки неважные…
— Неважные — куда ни шло. А то загнул — дрянь. Как будто немецкие эрзац-папиросы лучше! А вообще-то иногда и промолчать небесполезно, если тебе что-нибудь не нравится из нашего, советского.
Хочется сказать, что это демагогия, что он чурбак, и вообще недурно бы врезать ему промеж глаз! Но я же люблю своих товарищей, своих однополчан, обязан любить их: они пойдут со мной в бой, на смерть. Пересиль себя, люби Федю Трушина, как брата своего. Толстовец ты, что ли, лейтенант Глушков? При чем тут толстовство? Все проще: глупый ты и зеленый, ты мальчишка, хоть за спиной четыре года войны. И Трушин мальчишка, хоть у него за спиной те же годы. И опять вдалбливаю себе: помягче будь с людьми. Если что — уступи товарищу. Вполне миролюбиво я сказал:
— Давай-ка спать.
— Давай, — ответил Трушин менее миролюбиво.
И вместо философского, вдобавок душевного разговора мы молчком улеглись затылком к затылку, как повздорившие супруги. Первым вырубился Трушин, пустив доброго храпака. Подложив кулак под щеку, уснул и я.
Никогда бы не подумал, что смогу так спать, и где спать — в окопе, на войне.
Читать дальше