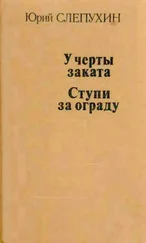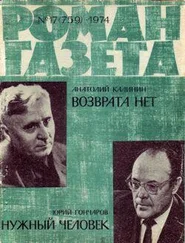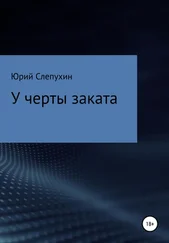Трудно было оспорить эти слова, Лена имела право на свой поступок. Но… но… С уничтожением писем исчезла, обратилась в небытие длинная часть жизни Антона, не зафиксированная больше нигде и никак, словно бы ее и не было никогда… Он не мог понять, зачем понадобилось их жечь. Не хотела Лена, чтобы их стал читать кто-то чужой, посторонний, могла бы их просто вернуть Антону, это было бы куда разумней…
Но не только своих писем стало Антону жаль. Он знал, что, живя в Липецке, еще до своего замужества, будучи студенткой географического факультета, Лена была дружна со многими молодыми военными летчиками. Все они были ровесниками Лены и Антона, за плечами у каждого остались десятилетки, училища военных пилотов, из которых они вышли с лейтенантскими погонами на плечах, долгие трудные месяцы, а то и годы на фронте, десятки воздушных боев, в которых посчастливилось уцелеть. В Липецке существовала школа переподготовки фронтовых пилотов. Здесь они изучали новые типы истребителей, созданные в ходе войны советскими авиаконструкторами, осваивали их в воздухе и на них же улетали в свои части на фронт. Оттуда они писали Лене письма, все они были содержательны, интересны, некоторые даже со стихами, в каждом проглядывали своеобразные личностные черты, звучали живые, неповторимые голоса. Лена иногда в своих письмах Антону приводила кусочки из того, что писали ей летчики. А стихи – так целиком. И почти никого из этих ребят не осталось в живых. Кто погибал в обломках своего иссеченного пулеметными струями и рухнувшего на землю самолета, кто вообще исчезал в пламени взорвавшихся бензобаков в небесной вышине, не вернувшись на землю даже прахом. Всем им довелось прожить совсем мало, и если что и осталось от этих великолепных ребят миру и людям, так это их строки, написанные Лене, голубоглазой девушке в Липецке, при коптилках фронтовых землянок, в траве, под крылом своих истребителей, а то и в их кабинах, в ожидании команды на взлет.
И вот эти бесценные письма сжечь! Все равно что сжечь их авторов – подвергнуть их полному, окончательному, безвозвратному истреблению. Их сердца, души, живые голоса, звучащие в чернильных и карандашных строчках…
Принять это, согласиться с Леной и на эту утрату – и мысль, и душа Антона не могли.
Пауза в их переписке длилась долго, но все же Антон первым нарушил молчание, и опять стал писать Лене, постепенно возвращая своей письменной речи прежний тон, а себе – прежнюю к Лене привязанность и любовь.
И все же случилось неминуемое.
Антону исполнилось пятьдесят лет. Эта дата, это событие показались ему чем-то неправдоподобным, удивляющим. Словно бы случилось то, что не могло, не должно было случиться: такая эпоха, такие бури и потрясения, такие жертвы, от его поколения, сверстников после войны с Германией всего лишь два-три человека из сотни, а он все-таки прожил полвека!
Праздники – с их утомительным бездельем, ненужным обжорством, желанными и нежеланными гостями и их долгими гостеваниями, пустыми, никчемными разговорами, после которых, как правило, нечего вспомнить, – Антон не любил вообще, свои же дни рождения – особенно. Он нарочно перед своим юбилеем добыл дешевую путевку в простенький профсоюзный дом отдыха и уехал, чтобы избавить себя от праздничной суеты, приготовления питья и закусок, телефонных поздравительных звонков и выслушивания одних и тех же, с фальшивым пафосом, стандартных слов, от пьяного пиршества, несмолкаемого галдежа, пьяных объятий и целований, бессвязных, то и дело прерываемых разговоров с соседями по столу, словом, от всего, что происходит в юбилеи и отчего потому целую неделю болит голова, тошнотно в желудке и пакостно на душе.
В доме отдыха по утрам давали на завтрак манную или жиденькую пшенную кашу, в обед – какой-нибудь супчик, картофельный, макаронный, какую-то жареную или вареную рыбу на второе, незнакомого вида и непонятного вкуса. Названия ее не знали даже повара, которые ее готовили. «Океанская, – отвечали они, если отдыхающие начинали у них допытываться. – С Дальнего Востока. А как точно – Бог знает». На ужин – опять какая-нибудь каша или овощные рагу, стакан простокваши. Мясо в меню отсутствовало, за все свои две недели отдыхающие только раз получили пару биточков из говядины. С мясом, как и всеми изделиями из него: колбасами, ветчиной, сосисками и прочим – в стране происходило что-то непонятное: оно исчезло на рынках и в магазинах, купить его можно было только в Москве, постояв в длинных очередях вместе с приезжими из Саратова и Астрахани, Куйбышева и Вологды, Калинина и Брянска; вся география Советского Союза была представлена в этих изнурительных, многочасовых очередях. И не только за мясом, но и за многими другими продуктами, промышленными товарами, такими, как женские сапоги, женская верхняя одежда, мужские ботинки и брюки – и прочее, прочее, даже, что казалось странным, нелепостью, за стенными обоями.
Читать дальше