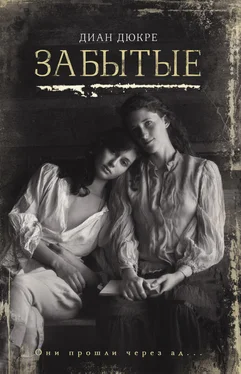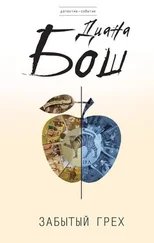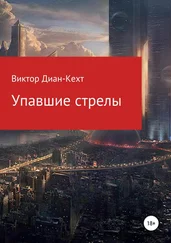– Если хочется есть – пой, если тебе плохо – смейся , говорила мне мама. Пой со мной, Ева, может быть, нам станет весело.
– Я больше никогда не буду петь на немецком.
– Значит, споем на французском!
– Все их песни – про пиво и колбасу, и я еще сильнее захочу есть.
– Тогда я спою на идише.
– На этом языке говорят в твоей семье?
– На этом языке мечтают. Закрой глаза.
Лиза проводит рукой по светлым волосам Евы, слипшимся от грязи и жары, и начинает петь колыбельную.
Спи, спи, спи, твой отец пойдет в деревню,
Принесет тебе яблочко, и головка не будет болеть.
Принесет тебе орешек, и ножка не будет болеть.
Принесет тебе уточку, и ручка не будет болеть.
Принесет тебе кролика, и носик не будет болеть.
Принесет тебе птичку, и глазки не будут болеть.
Но ни у одной из них нет отца, они излечивают себя сами. Лиза чувствует, как под ее руками тело Евы расслабляется, оседает. Ее сердце бешено бьется в груди; она была бы хорошей матерью, если бы ей это позволили.
Из-за гудронированной бумаги, которой защищены деревянные стены барака, внутри стоит удушающая жара. Лиза с ужасом обнаруживает, что ее кусок хлеба исчез. Она собиралась съесть его вечером.
– Да как они посмели?! – кричит она, выходя из себя.
Затем, осматривая барак, замечает перевернутые миски и рассыпанные крошки. Почти все скудные запасы съедены. На разведку вышли крысы. Пока женщин не было, грызуны привели в барак всю свою родню и устроили пирушку. Откопав где-то бечевку, Лиза подвешивает горбушку хлеба, найденную в углу, к самому высокому столбу, до которого может дотянуться. Так он будет в безопасности. В конце концов, крысы же не канатоходцы!
Лиза выходит из барака, оставив свой ужин болтаться на веревочке. Над асфальтом возвышается холмик. Она взбирается на него и всматривается во все, что ее окружает. Внимание Лизы приковывает гора, неподвижная и при этом столь мощная глыба невероятного цвета: вчера она была голубой, затем розовой, а сейчас – красновато-коричневая с золотистым отливом. Каменная стена, по сравнению с которой проволочное заграждение кажется ничтожным и смешным. Пейзаж выглядит таким мирным. Старый крестьянин вдалеке обрабатывает землю. Повсюду деревья и цветы. В реальность войны верится с трудом. Сизифы с темным цветом кожи неутомимо катят свои тележки, справа налево, затем слева направо. Бараки, постройки для испражнения – все кажется Лизе таким далеким. Наконец людские голоса стихают, наконец никто не видит ее лица. Когда у нас появляется свободное время, мы неспособны больше отдаваться эмоциям, неспособны ни на слезы, ни на крик.
В полдень – суп с репой или горохом, в зависимости от того, что есть в наличии. Это мутная горячая вода, в которой плавают твердые как камни горошины, которые невозможно разжевать. Вечером – то же самое.
Целый день у Евы не было сил пошевелиться, ее тело словно наполнилось тяжестью. Укладываясь на тюфяк и дрожа от холода, она внезапно чувствует запах, напоминающий ароматы луга. Недалеко от заграждений, возле чанов, Лиза обнаружила тоненькую журчащую струйку воды, сбегающую под наклоном. Последовав за ней, она увидела, что вода питает кустик свежей, блестящей под лучами солнца травы, выросший в нескольких дюймах от заграждения. Лиза просунула руку сквозь решетку, прижала пучок травы к земле и, заработав пару синяков на запястье, выдернула наконец несколько стебельков. Главное – не повредить корни, чтобы трава и дальше могла расти. Лиза сделала из нее импровизированный букет, связав его стеблем, и оставила на тюфяке подруги. Свежий запах исцеляет Еву, и она постепенно погружается в сон.
* * *
Из Зимнего велодрома – в автобусы,
Из автобусов – в поезда,
Из поездов – на станцию.
Конечная, выходят все! Все вместе!
Но куда мы идем, господин полицейский?
Вы можете нам сказать?
В лагерь!
Будем отдыхать!
Тут есть решетка, есть забор,
Тут есть бараки и надзор,
Есть много звезд на небе,
Здесь молодые будут отдыхать.
Не нужно говорить «концлагерь»,
Французам это не под стать.
Не нужно говорить «тюрьма»,
Разве что только прошептать.
Так как же мне назвать
То место чудное, где будем отдыхать?
Лагерь лишения свободы, если хотите знать,
Вы все равны. А теперь спать!
* * *
Тишину нарушают крики и стенания на всех языках мира. Когда дневной свет гаснет, женщины позволяют себе предаться безумству и начинают кричать. Возле барака номер двадцать пять слышатся шаги, дверь с шумом распахивается, пляшущая на потолке лампа внезапно снова зажигается. Грюмель, охранник, ответственный за их блок, прозванный Грюмо [43], потому что от одного его вида может свернуться молоко, подходит к ним, словно призрак, озаренный тусклым светом. Он так туго затянут в униформу, что кажется, будто воротник и пояс мешают ему дышать. Грюмель проходит по бараку, шаркая ногами, потроша тюфяки; от него исходит резкий запах алкоголя. Ему хотелось бы казаться выше, но ноги у него слишком короткие. Хотелось бы иметь как можно более воинственный и гордый вид, но для этого у него недостаточно длинная шея.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу