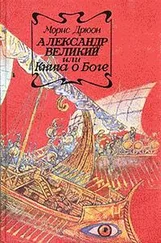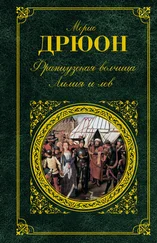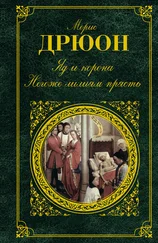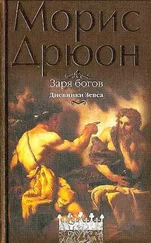Ни Монсиньяк, ни Курпье не поняли, откуда пришли первые пули, прожужжавшие у них над головой. В просвете камыша они увидели крадущихся немцев. Бебе инстинктивно нажал на гашетку, вскинув оружие наугад, ибо огонь вызывает огонь. В то же мгновение он разглядел за кучей бревен сидящих в засаде людей.
— Еще обойму, быстро! — скомандовал он, отбрасывая пустую.
— Да исполнится воля Твоя, — прошептал Монсиньяк, протягивая полную обойму.
Неприятель поливал со всех сторон шквальным огнем. Пулемет тоже стрелял не переставая. Монсиньяк сам поменял обойму.
— Нас окружили, — еле переводя дух, сказал Курпье.
— На опушке, слева! — крикнул Монсиньяк.
Они наводили дуло пулемета туда, где показывались немцы, и мысли Монсиньяка словно подверглись анестезии: пули свистели вокруг него, а ему было все равно. Он чувствовал себя здесь абсолютно чужим.
Вдруг Бебе оторвался от пулемета и, громко застонав, дважды перевернулся. Его лицо сделалось зеленым, как трава или водоросли в ручье: пуля попала ему в печень.
Враг продолжал стрелять.
Какую-то долю секунды Монсиньяк выбирал между корчащимся на траве телом и черным, еще горячим пулеметом.
И, поскольку лицо, которое бенедиктинец знал розовым, вдруг позеленело, все его видение мира резко изменилось. Он и не помышлял взвалить товарища на спину и унести с поля боя. Он выбрал смерть врага и бросился к пулемету.
Дрожь гашетки при первом выстреле доставила ему такую радость, словно после долгого одиночества он обрел нового друга. Вражеские пули били по деревьям вокруг Монсиньяка, во все стороны летели щепки и кора, но ему не было страшно. Пулемет трясся как сумасшедший, и все силы уходили на то, чтобы плечом и руками унять эту дрожь.
Какой-то немецкий солдатик, воспользовавшись передышкой, скользнул в камыши. Через прицел Монсиньяк увидел ползущего с поднятой головой солдата: белобрысого, совсем мальчишку. Вид у него был вовсе не злобный, ему просто очень хотелось прийти первым.
«Ну, погоди, ты у меня сейчас позеленеешь!» — подумал Монсиньяк. Он дал короткую очередь, не более четырех выстрелов, и голова парня больше не поднялась.
Монсиньяк вошел во вкус греха — он менял обоймы, стараясь беречь боеприпасы, и выбивал из просвета одного немца за другим.
Сколько времени он стрелял? Пять минут, может, восемь… Он не знал. Сейчас в его жизни не было другой цели — только убирать вражеские головы из тростника. И когда Монсиньяк услышал крики позади себя и его поддержали выстрелами, ему понадобилось время, чтобы вспомнить, что за ним бригада.
Ему пришли на выручку. Прибежал Большой Коллеве и поднял на руки Бебе.
— Отходи! — кричали Монсиньяку.
Перед пулеметом выгорела трава. Отходить? Это еще зачем? На берегу ручья было так хорошо!
— Отходи! Приказ лейтенанта!
Монсиньяк, пятясь, продолжал стрелять на ходу. Вдруг послышалось «щелк!» — и пулемет замолчал.
«Заклинило», — констатировал Монсиньяк.
— Пора отходить! — сказал Бернуэн.
— Правда? — отозвался бенедиктинец.
— Похоже, у тебя тут было жарко!
Монсиньяк провел рукой по лбу.
— Четырех я уложил точно, — сказал он, — и еще, наверное…
На самом деле он в это и не вникал.
Двое курсантов несли раненого. Глаза его были закрыты, он перестал хрипеть. Монсиньяк увидел, что пальцы свесившейся руки Бебе слегка сжались, словно ища, за что бы схватиться, и машинально протянул руку. И только когда Бебе ее стиснул, Монсиньяк вдруг с новой силой ощутил свою связь с людьми и снова стал парнем, у которого было детство, семья, монастырь и бригада.
— Бебе! Старина Бебе! — закричал он, только сейчас осознав, где находится.
Они шли по направлению к Шеневе. Бебе был смертельно ранен. В камышах валялись тела убитых.
Монсиньяк не испытывал ни ужаса, ни сожаления.
— Теперь, господин лейтенант, вы можете посылать меня куда угодно, — сказал он Сен-Тьерри.
Он еще не осмеливался сознаться себе, что его вера в Бога утратила чистоту. Зато знал наверняка, что всю жизнь будет нести тяжкий груз радости убивать.
3
Капитан Декрест вышел из машины и подошел к Сен-Тьерри.
— Бригада Луана разбита, — сказал капитан. — Не могли бы вы послать туда несколько человек с пулеметом?
— Несколько человек не переломят ситуацию, господин капитан, — ответил Сен-Тьерри. — Я бы десятерых отправил. Но надо дать передохнуть малышу Монсиньяку. Да и всей бригаде…
— Да, я понимаю… — пробормотал Декрест, глядя в землю.
Читать дальше