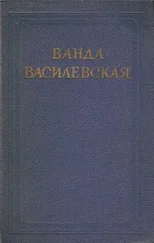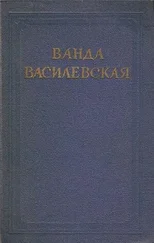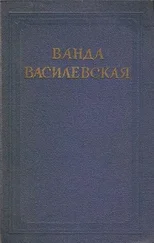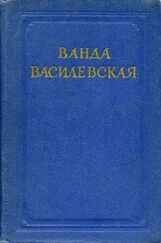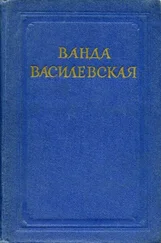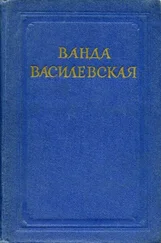— Мы уже давно здесь? — спросила вдруг Ольга.
— Трудно сказать, время тянется, когда вот так сидишь… А видно, уж вечер, в той комнате лампа горит, значит, вечер…
— Еще только вечер, — разочарованно вздохнула Ольга. — А мне сдается уж нивесть как долго…
— Какое там долго… А ты, девушка, возьми себя в руки, кто знает, сколько нам тут придется сидеть…
— Молода, молодые всегда торопятся, — вздохнул Евдоким. Чечориха в темноте обернулась к нему. Глаза уже освоились с мраком, и узкая щель в дверях пропускала чуточку света. Белая голова старика неясно выделялась на фоне стены.
— Куда спешить-то? Нам уж теперь спешить некуда, дедушка… Сколько здесь просидим, то и наше, а дальше уж ихнее…
— А если наши придут? — робко вмешалась Ольга. Не может же быть, думалось ей, чтобы уж совсем не было выхода, чтобы двери темного чулана могли открыться только в смерть.
— Да ведь ненцы дали сроку только три дня.
— А в эти три дня?
— В такую-то вьюгу… Трудно. Как тут итти, как тащить пулеметы, пушки? Ведь собственного носа не видно в метели, в любом овражке, в любом долочке может снегом занести…
Чечориха говорила спокойно, но вдруг поняла, что не верит собственным словам. Снег снегом, а все же они ждали каждый день, ждали упорно, с непоколебимой верой. Ведь вот еще сегодня утром могла же она думать, что они придут, что, может, они уже около Лещан, может, уже спускаются в овраг или взбираются по тропинке в гору, — почему же им теперь не притти? Вьюга была и вчера, и позавчера, — что им вьюга! Им укажут и тропинки, и проходы, своя ведь, родная земли, они знакомы и с вихрем, и со снегом, им не впервые…
Да, Ольга права. Они могли притти. Могли притти как раз в один из этих трех дней, что остались до смерти. Вдруг затрещат двери, загремят выстрелы, и все они выйдут из темного чулана на белый свет, увидят своих родимых бойцов, а потом скорей домой, скорей к Малюкам за детьми…
Может, они уже даже идут, может, под прикрытием ночи, за завесой вьюги, которая заглушает все звуки, они теперь крадутся к деревне и вдруг ударят, как гром, сокрушат, разобьют, раздавят, как клопа, немецкую банду, что присосалась к деревне и пьет из нее кровь.
— А может, и придут, — сказала она вслух, — может, и дождемся.
— Думаете, придут? — спросила Ольга.
— А может, и так, — пробормотал Евдоким. — Ох, пора бы уж, пора!
— Нас найдут, все ведь знают, куда нас заперли, — лихорадочно зашептала Ольга. В этот момент ей показалось, что самое важное, чтоб их нашли, чтобы тотчас же открыли дверь, чтобы не сидеть здесь ни одной минуты, когда немцы уже побегут в метель и снег под ударами красноармейских штыков.
— Об этом не беспокойся, пусть бы только пришли, — успокаивала ее Чечориха. — Ты так говоришь, будто они уже у деревни.
— А может, и вправду?
— Может, и вправду, — повторила та и стиснула пальцы так, что они хрустнули.
Малаша продолжала упорно смотреть в одну точку во тьме. Да, им-то хорошо ждать, они могут надеяться, для них это было бы спасением. Но ей никто не может помочь, ее никто не может спасти. Придут свои — и что с того? Ни выйти им навстречу, ни поздороваться, ни порадоваться на них. Ей нельзя им кружку воды подать, нельзя пригласить в избу, кто она? Она носит в животе фрица. Придут свои, оживет деревня, запоют на улицах девчата, будут зубоскалить с красноармейцами. Будут любиться по избам, и никому и в голову не придет осудить — свои ведь. Неужели же девчатам жалеть им поцелуев, когда неизвестно, останется ли в живых тот или другой еще месяц, неделю, день? Только на нее одну никто и не взглянет, от нее всякий с отвращением отвернется. И если даже война кончится, если даже Иван вернется, — к ней он уже не зайдет. Ему расскажут, и он обойдет стороной избу, а если встретится на улице, пройдет мимо, как незнакомый.
Там, в другом углу, слышится шепот Ольги.
— Небось, подальше сели, подальше, — подумала она ядовито, забывая, что сама подождала, когда они разместятся, и ушла от них в самый дальний угол. Да, Ольга может бояться смерти, Ольге есть зачем жить. Вернется из армии Остап, они поженятся, будет она жить, как все живут, будет работать, как все работали до войны, будет рожать Остапу детей. Только одна она, Малаша, самая хорошенькая девушка и самая лучшая работница во всей деревне, никогда уже не будет такой, как до войны.
Федосия оплачет Васю, пройдут дни, месяцы, и она будет спокойно думать о сыне. Это простое дело, и не он первый, не он последний погиб за родину. Забудут и родители Левонюка, — у них ведь еще два сына и две дочери. Когда ребята вернутся с войны, дом будет полон. Отстроятся разрушенные немцами избы, вырастут новые деревья на месте тех, которые фрицы беспощадно вырубали в садах на топливо. Заживут раны, и все снова будет, как бывало. Только для нее одной ничто не вернется и ничто не забудется. Перед всеми — путь, — перед одними труднее, перед другими легче, только перед ней нет уже никакого пути.
Читать дальше