Скрипнули ворота. Повеяло сырым тающим снегом. Ездовые, с шумом поставив в угол лопаты, топали, хлопали рукавицами по бокам.
Михал не подумал об этом. Ездовые очищали поилки от снега. Они действовали без приказа, может быть, наперекор ему, чтобы доказать, что не нуждаются ни в чьей указке. Они могли очистить их позже, но, видимо, хотели подчеркнуть свою независимость.
Он ничего им не сказал и вернулся назад в конюшню еще более расстроенный. «А может быть, это я их ненавижу, — подумал он. — За их трудную судьбу, за их твердость».
Он перестал считаться с условностями.
— Эмир, подвинься!
Он толкнул сивый круп, сел на цимбалину. Конь повернул голову и посмотрел на него влажным коричневым глазом.
— Чего уставился? Спи!
Цепи, на которых висела цимбалина, тихо поскрипывали. Запах конюшни действовал одуряюще, ел глаза. Время, погрузившись в сон животных, стояло на месте. Когда Михал открывал глаза, он видел все тот же нереальный мир. Сивый бок Эмира, рядом на крюке седло с подтянутым на луке стременем и свисающей подпругой, а с другой стороны прохода — лежащие на соломе конские крупы. Ему казалось, что он бодрствует, что улавливает ухом каждый шорох и готов вскочить на звон шпор дежурного офицера, но топот тяжелых ботинок, покашливание и сонные ворчливые голоса захватили его врасплох.
— Недоносок, — говорил один.
— Антихрист, браток, — говорил другой.
Ездовые несли носилки. Он замер на своей цимбалине. Пройдя два стойла, они остановились, опустили носилки на землю. Он видел над лошадиными хребтами их головы в мятых фуражках. Один из них, с красной рябой рожей, закашлялся.
— А Чепелю, брат, взяли в санитарный барак, — сказал второй, с усиками и острым носом, как у крысы. — Вся его болезнь — чирей на заднице.
Рябой снова закашлялся, на этот раз как-то демонстративно.
— Уже ощипали, — сказал он.
Кряхтя, они подняли носилки и пошли дальше. Даже не посмотрев в его сторону.
Михал облегченно вздохнул. Они говорили о гарнизонном враче. Его же не удостоили даже ругательством.
Когда они вышли в сени, он встал и продолжил свою скучную прогулку. Делая очередной поворот, он заметил у входа фигурку в длинной шинели и конфедератке. Это был Ошацкий, из соседнего взвода. Он потягивался и зевал.
— Ну, как дела, старик? — спросил он, заикаясь от зевоты.
— Дьявольская скука, — ответил Михал. — И спать хочется.
— Я выспался, — сказал Ошацкий. — Часа два покемарил в яслях. У меня мировые ангелы-хранители. Я дал им по пачке махорочных, и они ходят как по струнке. Ничего им не надо говорить. Если придет поверка — вовремя разбудят.
Он протер глаза кулаками в перчатках, на его веснушчатом детском лице сияла улыбка.
— К тому же, брат, — добавил он, — сегодня опасаться нечего. Дежурство по дивизиону несет майор Гетт. Я слышал, как на манеже он договаривался с капитаном сыграть в бридж. Теперь он заявится только к раздаче кормов.
— А где же твои ангелы-хранители? — спросил Михал с раздражением. — Что-то их не видно.
— Сейчас они спят, а я отдуваюсь. Для чего всем мучаться?
— Если бы тебя накрыли, губа обеспечена.
Ошацкий рассмеялся.
— Э, брат! Губа тоже для людей, — он отряхнул с шинели остатки сена и ушел к себе.
«Ошацкий прав, — думал Михал. — Прав, черт побери!» Некоторое время он раздумывал, не пойти ли к ездовым и не сказать, чтобы поспали. Пожалуй, уже поздно. Подумают, что подлизывается. Ну что ж, надо заканчивать так, как начал. До раздачи кормов еще два с половиной часа. Он расхаживал все медленнее, распираемый зевками и тревогой. Кости, словно плохо подогнанные, давили на мышцы. Посмотрел на часы. Ему показалось, что они стоят. Приложил часы к уху и услышал настойчивое тиканье.
Он опять сел на цимбалину возле Эмира. «Только на минутку», — подумал он, позволяя векам сомкнуться.
— Пан подхорунжий…
Михал вскочил. Перед ним стоял тот рябой с красной рожей, ездовой Петрас, и забавно моргал белесыми ресницами.
— Не вставайте, пан подхорунжий. Я к вам с просьбой. Вы не рассердитесь?
— Что вам угодно?
Солдат кротко улыбнулся, полез в карман шинели и что-то с шуршанием извлек из него.
— Я письмо получил. Из дому. От брата. Вы мне не прочитаете?
— Давайте.
Михал подвинулся, освобождая место рядом с собой. Письмо было написано на вырванном из тетради листке. Аккуратные круглые буквы со старательно выведенными завитками, маленькие фиолетовые пятнышки разбрызганных чернил.
Читать дальше
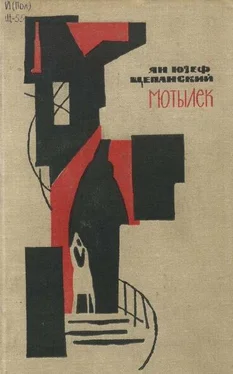



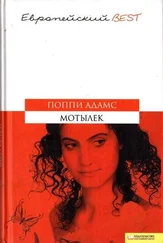

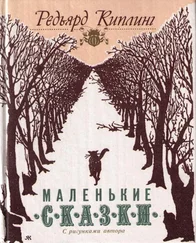

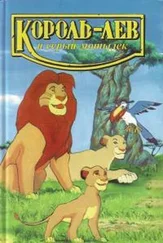
![Марина Буторина - Мотылек-самоубийца [СИ]](/books/417956/marina-butorina-motylek-samoubijca-si-thumb.webp)