Лэа была общительна. Она дружила и с девушками-бойцами, и с женщинами вдвое старше себя.
Но когда Лэа предложили участвовать в самодеятельном концерте, она наотрез отказалась: «Не пою, не танцую, не читаю стихов — нет таланта». Костюмы участникам, правда, она придумывала необыкновенные…
Как-то я заикнулся о том, что нам бы хорошо переехать. Лэа возразила:
— Что ты? Наша старушка ужасно расстроится.
А она у нас такая милая, славная. Не будем ее обижать…
И мы остались у старушки Подтелковой. Иногда в нашу комнатку набивалось столько народу, что приходилось настежь раскрывать окна, заставленные горшками с китайскими розами. Нам было хорошо, и ничего лучшего мы не желали.
Лэа работала в морском госпитале. Возвращалась с дежурств усталой. Но мне она всегда улыбалась.
В одном из походов, когда я заменял Бессонова (ои был в отпуске), заболел моторист Сарычев. Он жаловался на боль в животе. Но когда Дементьев предложил его подменить, Сарычев отказался и с укором сказал: «В войну тяжкораненые выстаивали до конца вахту. А я не ранен». Дементьев пришел на мостик и доложил. Я решил: «Хорошо, выполним его просьбу». (Как я потом проклинал себя за такое решение!)
Когда мы вернулись в базу, наш врач, осмотрев Сарычева (моториста вынесли товарищи на руках, он дрожал мелкой дрожью), сердито сказал:
— Немедленно в госпиталь. Боюсь, не довезем. И вы ему разрешили стоять у моторов? Эх, вы!
Сарычева увезли в санитарной машине.
Часа через два я приехал в госпиталь. Встретил Лэа:
— Операция продолжается, Юри. Операция очень тяжелая.
С удивлением я увидел в госпитале своего адмирала:
Сергей Иванович, в белом халате, стоял у окна. Лицо у него было такое, как будто родной его сын лежал на операционном столе.
Я пришел в госпиталь после него!
А кому, как не мне, надо было быть первым?
Лэа сказала:
— Прости милый, больные ждут.
И ушла.
Томительно текло время. Сергей Иванович постукивал пальцами по стеклу. За окном было все мокро — и дома, и деревья. Наконец раскрылись белые двери, вошел усатый человек в белой шапочке и белом халате. Не обращая на меня внимания, подошел к адмиралу:
— Сергей Иванович, здравствуй. Зачем к нам пожаловал? Твой? — спросил понимающе.
Адмирал ответил:
— Мой, Иван Иннокентьевич, мой. Вызволишь?
— Ручаться не могу. Слишком поздно его к нам доставили. Но надеюсь, что молодой организм переборет…
— В его возрасте умирать непростительно. Вся жизнь впереди…
— Безусловно, — согласился врач и тут только заметил меня: — А вы чего ждете?
— Сарычев с его корабля, — пояснил адмирал.
— Как же это вы, батенька, а? — обрушился на меня усатый хирург. Оставили в таком состоянии стоять у моторов? Поберечь надо было, в кают-компании уложить на диванчик, предоставить полный покой. Могли и до берега не дотянуть. Потеряли бы человека! Эх вы, молодежь, молодежь! Один — романтик, другой — романтик, а жизнь нам дается всего один раз. В войну, правда, раненые не покидали постов. Но сейчас мирное время. И перитонит почище любого ранения. Прошу прощения, Сергей Иванович, у меня операция. Напряженнейший день…
На высокой каталке провезли мертвенно-бледного Сарычева. Он либо был без сознания, либо спал. Адмирал заглянул матросу в лицо, покачал головой.
Это был мучительный день. Лэа не пришла. Я несколько раз звонил в госпиталь. Дежурный врач отвечал: «Состояние очень тяжелое». Я мучился. Боялся ответственности? Ну нет! За свой промах я готов был понести самое тяжелое наказание. Я сам себя осуждал.
Разве в наказании дело? Как дальше жить, если Сарычев все же умрет? Какими глазами посмотрю я на его мать? Я вспомнил письмо ее, когда-то меня насмешившее. Оно начиналось так: «Товарищ отец-командир…»
Наверное, вид у меня был совсем нехороший, потому что Дементьев, зайдя меня навестить, стал утешать: мол, все обойдется. А Веста, не сводя с меня глаз, подсовывала мне под руку свои теплые уши. Я готов был снова ринуться в госпиталь, хотя знал, что это бесполезно: меня не пустят дальше ворот. Позвонил еще раз по телефону.
Дежурный врач с сочувствием ответил, что созван срочный консилиум.
— Это товарищ адмирал? — спросил он.
— Нет.
— Сарычев сын ваш?
— Больше. Он мой подчиненный.
Внутренний голос спросил вдруг с пристрастием:
«А если бы твоей вины не было, ты бы так же стал терзаться о нем? Помнишь, Лэа тебе говорила, что некоторые больные матросы лежат заброшенные, их начальники не только не зайдут навестить, но даже о них не справляются?.. Чепуха! При чем тут моя вина? Мне дорог Человек, прежде всего Человек…»
Читать дальше

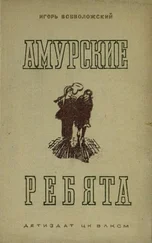
![Игорь Всеволожский - Отряды в степи [Повесть]](/books/34347/igor-vsevolozhskij-otryady-v-stepi-povest-thumb.webp)



![Игорь Вереснев - Хозяйки тумана [litres]](/books/393899/igor-veresnev-hozyajki-tumana-litres-thumb.webp)


