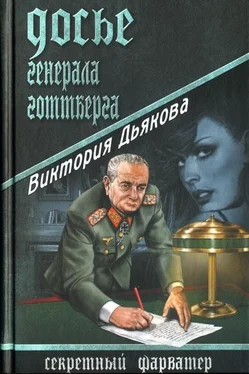После Тухачевского взялись за нашу группу. Обвинение то же — шпионаж в пользу Германии, а заодно Англии и Южной Америки. Петровский и Кондратьев были приговорены к расстрелу. Их вывели на двор тюрьмы и поставили к стене. Меня же Ежов привел в комнату, из окна которой было прекрасно видно все, что происходило внизу. Он сунул мне в руку прощальную записку Алексея, которую я не стала читать при нем. Думаю, Алексей не знал, что я присутствую при казни, но догадался. Поднял голову, посмотрел вверх, прощаясь со мной, улыбнулся. Я видела, что он страшно избит, просто живого места нет. Позднее узнала, от него добивались, чтобы он оговорил меня: будто Катя Белозерцева была еще при Дзержинском заслана белогвардейской разведкой к красным, а после сотрудничала с СД еще с кем-то, например с японцами. За такие показания обещали послабления. Но Алексей не сломался. Он предпочел смерть предательству. Когда подались команды, я не выдержала — потеряла сознание. Очнулась в палате тюремной больницы. Мне сказали, что все кончено, Алеши больше нет. Я молча глотала слезы, не позволяя себе разрыдаться в голос в присутствии своих мучителей. Когда меня ненадолго оставили одну, я прочитала его записку. Алексей вспоминал о том чудесном рождественском вечере семнадцатого года, когда впервые увидел меня и признавался, что полюбил с первого взгляда. До самого конца. До самого конца жизни, который теперь пришел.
Я до сих пор храню эту записку и благодарю судьбу, что она помиловала меня, не отняв любимого человека во второй раз. Как оказалось, перед самым расстрелом пришел приказ Сталина заменить казнь двадцатью годами лагерей обоим. Но я уже не слышала этого. И мне ничего не сказали — продолжали издеваться. Почти полных четыре года я ничего не знала о том, что Алексей жив. Та же участь постигла и его. Начальник лагеря сообщил ему в самом конце тридцать седьмого года, что, не выдержав заключения, я умерла в больнице. Так, будучи живыми, мы похоронили друг друга, не зная, что нам еще доведется встретиться-
Простившись с Алексеем и прекрасно понимая, что жизнь моя тоже вот-вот окончится, я многое вспомнила, находясь на больничной койке. Но случилось неожиданное событие. Однажды явился заместитель Ежова и объявил, что принято решение — меня увольняют из органов и предписывают немедленно покинуть Москву. Я поняла: отправляют в ссылку. Местом моего пребывания была выбрана старая усадьба князей Белозерских на берегу озера, где прошла моя юность. Я остолбенела: отчего такая милость? Как оказалось, так решил Сталин. Он услал меня подальше от Ежова, понимая, что тот не оставит меня в покое. Вождь ни на мгновение не верил в его вымысел о том, что я была заслана к красным деникинской разведкой. Ежов устраивал его как исполнитель, до поры до времени.
В усадьбе Белозерское, по приказанию Сталина, охранять меня должны были местные чекисты, без всякого участия Ежова и его приспешников — это было подчеркнуто особо. Начальник вологодского ГПУ получил на мой счет особые указания лично от вождя. И Ежову оставалось только лязгать зубами в бессильной злобе. Я прибыла на Белое озеро осенью, в октябре тридцать седьмого года. С того момента, как вместе с княгиней Алиной я проводила там лето в шестнадцатом году, прошло более двадцати лет. Дом был разрушен, разграблен, сад подожжен и выкорчеван. Когда я вступила на до боли в сердце знакомую аллею, ведущую к дому, передо мной предстал потрескавшийся фасад, зияющий дырами окон, отбитые колонны на парадном крыльце, вздыбленные, вывороченные наружу камни лестницы. Все поросло мхом, покрылось плесенью. О, Господи! Зачем?… Теперь я понимала утонченную издевку, скрытую в сталинском приказе. Меня отправили сюда, чтобы я каждый день видела, что сотворили с моим прошлым, а значит, то же самое может произойти и со мной. Я не могла идти, опустилась на колени и, согнувшись, содрогалась от рыданий.
— Матушка, Екатерина Алексеевна, вы ли это, никак живехонька? — вдруг надо мной послышался необыкновенно знакомый голос. Голос, от звучания которого у меня замерло сердце. Я подумала, слух сыграл со мной злую шутку. Я отняла руки от лица, открыла глаза. Да, так и есть, мне не почудилось. Передо мной стоял старый денщик Григория, которого я потеряла при отступлении деникинцев еще в 1919 году.
— А мы-то со старухой думали, что вы погибли тогда, вот уж жалились по вас, все глаза выплакали! — Он помог мне подняться. Я видела, что годы оставили неизгладимый след на его челе. Два кривых шрама от удара шашки искривили щеку, волосы поредели и сделались белыми как лунь, глаза выцвели и запали, все лицо испещрили морщины, спина сгорбилась.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу