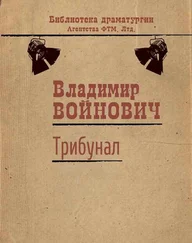— В таком тоне писать не советую, — предостерегает бывший командир дивизии. — Это лишь вызовет раздражение, и генерал, даже не дочитав вашего прошения до середины, откажет в нем и подпишет приказ о вашем расстреле. В вас или в вашем конкретном деле совершенно никто не заинтересован, и если вас помилуют, в чем я сомневаюсь — звание у вас слишком высокое, — то исключительно потому, что вас можно использовать для какого-то дурно пахнущего дела. Совершенно не ради вас. Пишите так: разжалованный оберст горнострелковых войск, имя, фамилия, дата рождения, и адресуйте прошение ответственному за помилования генералу. Начинайте, отступив на два пальца от края, не забудьте этого. Затем дата, время, приговорен к смерти высшим трибуналом, Берлин. Потом просите, чтобы приговор был смягчен и заменен каторгой. Наконец тремя пальцами ниже: Берлин-Моабит, казармы пехотного полка, дату, хайль Гитлер и ваша подпись.
— Хайль Гитлер? — с удивлением переспрашивает Фрик.
— Думаете, эта форма приветствия изменена вашим смертным приговором? — улыбается бывший генерал-лейтенант.
Ровно через двадцать минут мрачный фельдфебель возвращается. Быстро просматривает прошение, удовлетворенно кивает и молча выходит из камеры.
— Думаете, у меня есть хоть какой-то шанс на помилование? — спрашивает Фрик с надеждой во взгляде.
— Естественно, нет. Люди получают помилование, но так редко, что всякий раз это становится сенсацией. Думаю, в вашем случае это исключено. Будь вы рядовым, обыкновенным новобранцем, у вас мог быть крохотный шанс, в зависимости от настроения генерала в этот день, но как у строевого офицера, приговоренного по статье 91-б, — ни малейшего! Вас расстреляют!
— Силы небесные, значит, подача прошения — лишь пустая трата времени? — говорит Фрик, и в душе его нарастает отчаяние.
— Вам не терпится расстаться с жизнью? — саркастически спрашивает генерал. — Благодаря прошению поживете подольше. С вами ничего не случится, пока оно не вернется обратно. Вас не уведут отсюда завтра утром в восемь ноль-ноль, как может случиться с любым из нас. В течение ближайших восьми суток вы не будете лежать в ужасе всю ночь.
— Отсюда уводят в восемь утра? — спрашивает Фрик дрожащим голосом. Он уже чувствует на себе холодную руку смерти. Вся камера веет страхом. Страх исходит от стен, опускается с потолка, поднимается с пола.
— Да, каждое утро ровно в восемь ноль-ноль вы будете слышать топот сапог и бряцание оружия в коридоре. Слышать, как открываются и закрываются двери камер. Ровно в одиннадцать, когда пробьют казарменные часы, в этот день бояться уже нечего. У нас остаются еще почти сутки жизни, и вся тюрьма облегченно вздыхает. Страх охватывает нас снова, когда наступает ночь и мы лежим в постелях. Самое худшее время — между четырьмя и восемью утра. Слышатся крики из других камер. Кое-кому удается совершить самоубийство, но да поможет им Бог, если попытка окажется неудачной и их вернут к жизни! Охранники воспринимают такие попытки очень остро. Их отправляют на передовую, если заключенный сумел избежать расстрела.
— А совершить побег нельзя? — спрашивает оберст, и лицо его оживляется.
— Совершенно невозможно, — со смешком отвергает это предположение генерал.
— А воздушные налеты? — упрямо спрашивает оберст. — Когда все в беспорядке?
— Беспорядка здесь не бывает, — улыбается генерал. — Охранники запирают камеры на два поворота ключа и садятся играть в карты. Случись прямое попадание бомбы, так что из этого? Противник просто приведет в исполнение наш приговор. Мы расходный материал. Будем израсходованы днем раньше или днем позже — какая разница? Важно только то, что мы мертвы и можно доложить, что приговор приведен в исполнение.
— Страшно, — говорит оберст, проводя ладонью по остриженной голове, — свыкаться с мыслью, что тебя поведут на убой, как скотину.
— Согласен с вами, — говорит генерал.
— Где совершаются казни?
— Где вы были, оберст Фрик? — саркастически спрашивает генерал. — Не знаете, как сейчас делаются дела в Германии? В Морелленшлюхте людей расстреливают группами. Главным образом за мелкие правонарушения.
— И вешают там же? — с содроганием спрашивает оберст.
— Конечно. Виселицы стоят рядами. Обезглавливание — единственный приговор, который военные власти попросили не приводить в исполнение на армейской территории. Это делают гражданские власти в Плётцензее. Казнь совершает главный палач. Те, кто приговорен к отсечению головы, уже отчислены из армии и считаются гражданскими.
Читать дальше