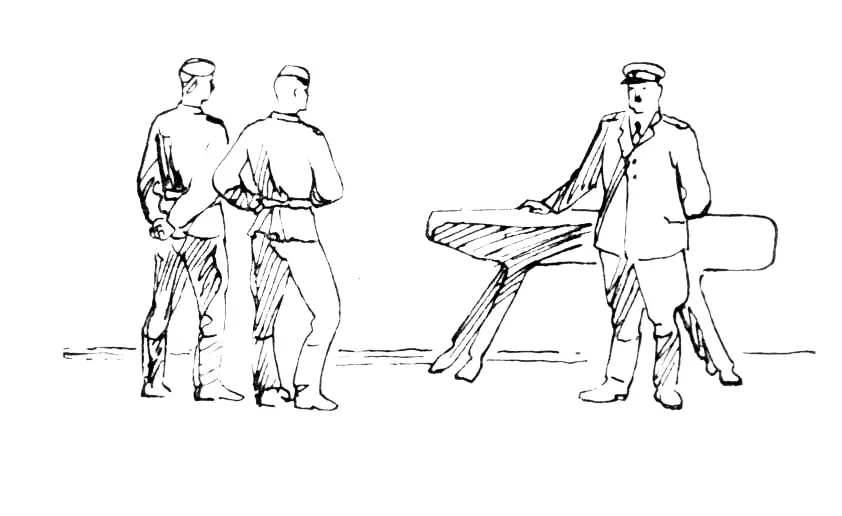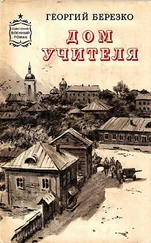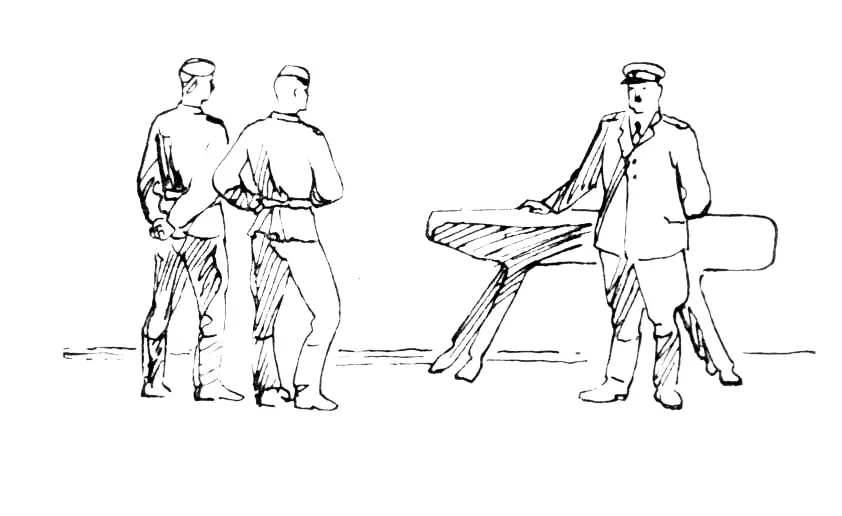
Было воскресенье, день в полку начинался на час позднее; но старшина сверхсрочной службы Елистратов проснулся на рассвете, и в его квадратной, голой, как монашеская келья, комнатке был еще полумрак. Со всегдашней своей настороженностью он прислушался: за стенами стояла тишина, неспешно проковылял дневальный мимо двери, брякнул кружкой — пил воду. И, ловя эти привычные звуки, стараясь по ним представить себе, как прошла ночь, Елистратов спустил с койки ноги и занялся физической зарядкой. Не включив света, он долго одиноко размахивал руками, стискивая кулаки, нагибался, откидывался, приседал, крякая и отдуваясь… За полчаса до подъема Елистратов обошел всю свою казарму — еще тихую, погруженную в сон, — недоверчиво всматриваясь в темные углы и в каждую спящую фигуру на койке. Он и сам не мог бы толком объяснить, чего именно, какой беды он опасался, но неопределенное беспокойство никогда полностью не оставляло его… Незаметно посветлело; небо за высокими, с мелким переплетом окнами окрасилось сперва в фиолетово-водянистый, потом в розово-желтый цвет. Сержанты — командиры отделений — уже одевались, сидя на своих койках, встрепанные и молчаливые; дежурный но роте погасил ненужное электричество. И ровно в семь в разных концах казармы одновременно прокричали резкие протяжные голоса: — Подъ-е-ом! Еще какое-то мгновение держалась, точно вспугнутая, тишина. Затем все зашевелилось, ожило, и помещения взводов разом наполнились множеством остриженных круглоголовых молодых людей в голубых майках — спешащих, пышущих жаром только что отлетевшего сна. Елистратов хмуро наблюдал эту знакомую в мельчайших подробностях картину: можно было подумать, что она ему чем-то не нравилась. Через десять минут по команде молодые люди с грохотом, подобным горному обвалу, ссыпались вниз, во двор, топоча сапогами по железной лестнице. И через положенное время, вернувшись с зарядки, приступили к умыванию и заправке постелей. В отмеренный скупо срок они построились повзводно для утреннего осмотра: далее состоялся самый осмотр, во время которого Елистратов при всей своей взыскательности ограничился лишь несколькими незначительными замечаниями. И минута в минуту по расписанию солдат вывели из казармы в столовую на завтрак. Все совершалось, как и вчера, как и год и десять лет назад, по тем твердым правилам и порядкам, на страже которых стоял Елистратов. Но хмурое выражение не сходило с его широкого, малоподвижного, будто закаменевшего, лица; казалось, тайное недовольство, неудовлетворенность мучили его. И пожалуй, сегодня, именно в выходной день, это скрытое страдание было особенно сильным. Сегодня Елистратову предстояло отпустить в увольнение в город многочисленную группу солдат, и это заранее уже испортило ему настроение. Гораздо охотнее он отправил бы людей на полковой стадион или в физгородок — пускай бы потренировались в предвидении близкой инспекторской проверки: пользы было бы больше и для части и для них самих. Глядя сверху, из раскрытого окна второго этажа, на свою роту, марширующую в столовую, Елистратов увидел, что рядовой Воронков сбился с ноги и вообще не держал строя: то порывался вперед, то отставал и ему наступали на пятки. Вот уж кого — Воронкова — он не отпустил бы в город: по мнению Елистратова, это был едва ли не самый своевольный и дурно воспитанный солдат в полку. Кстати сказать, потренироваться на турнике, на «коне» и ему не помешало бы, как и другим… Спустя полтора часа Андрей Воронков, рядовой первого года службы парашютно-десантного полка, рослый, но с мальчишески узкой талией, с крепкими плечами, но с тонкой шеей, с красивыми, хотя и небольшими, ярко-синими глазами на загорелом, с гладкой кожей лице, стоял перед старшиной в шеренге таких же, как он, чисто, до блеска на щеках умытых отпускников, одетых в выходные гимнастерки, стоял и томился, ожидая, когда же старшина раздаст им увольнительные записки. Бог весть почему, тот медлил, прохаживаясь вдоль шеренги, вновь и вновь присматриваясь к каждому. И Воронков думал о том, что, случись со старшиной несчастье — споткнись он и сломай себе ногу на крутой лестнице, — солдаты поздравили бы друг друга, как в праздник. В целом мире не было сейчас никого другого, с кем Воронков так яростно внутренне враждовал бы; все сложности и тяготы его нынешней армейской жизни имели, казалось ему, причиной одно — зависимость от ротного старшины, от этого сумрачного, неутомимого в своем недоверии человека.
Читать дальше