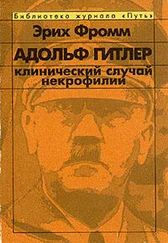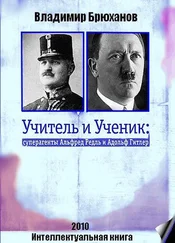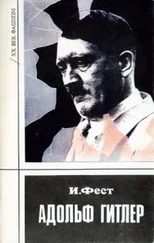Долгие бессонные ночи в камере тюрьмы наедине с собой, своими мыслями готовилась Марина к этому моменту, намереваясь произнести если не громкую, то во всяком случае впечатляющую речь. В заготовленной и почти наизусть выученной речи было все: обличение фашизма, осуждение войны, массовых убийств и казней, рабского режима нового порядка в Европе, и, конечно же, протест против нападения на ее Родину. Она поднялась до высот политического осмысливания фашизма, его человеконенавистнической сути и хотела во всеуслышание сказать об этом, но, оценив публику в зале суда, решила отказаться от своего замысла. Речь ее на фашистов не произвела бы того впечатления, на которое она рассчитывала. И сказала предельно просто, но простотой этой ни чуть не уменьшила гордого звучания своих последних слов:
— Я не стану перед вами на колени. У русских людей перед врагом колени не гнутся. Я хорошо знаю, что меня ждет смерть, — Обвела горделивым взглядом притихший зал, расправила плечи, будто освобождаясь от давившей тяжести, продолжила, — Так вот. За счастье народов Бельгии, за счастье моей Родины я готова принять смерть. Готова. Выносите свой приговор. Выносите.
* * *
Судебный процесс над Мариной был закончен. Смертный приговор — расстрел — вынесен, однако исполнение его по совершенно непонятным для Нагеля причинам Берлин приказал отложить до особого распоряжения. Нагель нервничал, полагая, что в Берлине, видимо, не понимают, что отсрочка исполнения приговора расценивается в Брюсселе как слабость оккупационной администрации, как опасение за возможные последствия, и это воодушевляет бельгийцев к Сопротивлению. По агентурным и официальным сообщениям, поступавшим в гестапо, Нагель имел возможность в определенной мере объективно судить о положении дел в Брюсселе, но вырисовывавшаяся при этом картина оптимизма не вызывала. Ему, конечно, не дано было знать, что судьбою Марины, притягательной силой ее подвига, заинтересовался рейхсминистр пропаганды Германии доктор Геббельс.
— Мой фюрер, — спросил он Гитлера на очередном докладе. — Надеюсь, вам известна история с русской эмигранткой, террористкой из Брюсселя Шафровой-Марутаевой Мариной?
Гитлер на миг скосил на него глаза, но ничего не ответил, а продолжил читать «Перспективный план пропаганды и контрпропаганды» и только после того, как отложил в сторону документ, вопросительно посмотрел на него, ответил:
— Да, известна, — нервным движением руки фюрер поправив челку волос, свисавшую на лоб, — Королева бельгийцев Елизавета просила помиловать преступницу. Суд приговорил… Как ее? — Он нетерпеливо повертел указательным пальцем, вспоминая фамилию Марины.
— Шафрова-Марутаева Марина, — подсказал Геббельс.
— Вот именно. Суд приговорил ее к расстрелу.
— Совершенно верно.
— Чем эта террористка вызвала твой интерес, Йозеф?
— Мой фюрер, — ответил Геббельс, как всегда в таких случаях подчеркнуто преданно. — Вы хорошо знаете, что не в моих правилах выражать недовольство действиями рейхсминистра СС Гиммлера, или в чем-то упрекать его. Генрих превосходно делает свое дело, исполняет долг перед великой Германией. Но в случае с этой русской он поступил… — Геббельс на секунду запнулся, формируя более мягко выражение мысли, — Поступил… слишком прямолинейно.
Взгляд Гитлера потускнел. Хотя и осторожное, но все же нелестное высказывание Геббельса о Гиммлере было для него неприятным. Он полностью доверял Гиммлеру и не допускал мысли, что шеф гестапо сделает что-то не так, как нужно.
— В истории с русской террористкой, — сказал он отрывисто, подчеркнув слово «русская», — иного решения, иного приговора быть не могло. — В его тоне слышалась закипающая злость. Он блеснул на Геббельса непреклонным взглядом, повысил голос, словно говорил не с рейхсминистром, а выступал перед исступленной толпой, жадно хватающей каждое его слово, — Русский, где бы он ни находился — в России, Франции, Бельгии или иной стране — для нас остается русским! И если он совершает преступление против рейха, то приговор для него должен быть единственным — смертная казнь! И тут уж дело суда, в какую форму ее облечь — расстрел, виселицу или гильотину. — Он перехватил недоуменный взгляд Геббельса и, распалившись, еще раз подтвердил. — Да, да… Гильотина! Скажешь, нас будут обвинять в возрождении средневековой казни? Пусть. Пусть обвиняют! Меня никто и ничто не остановит перед физическим уничтожением русских, — Он повертел шеей, будто высвобождаясь от удушья.
Читать дальше