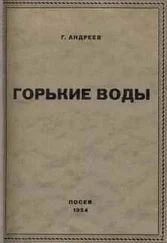Свет из полу заваленной двери нехотя пробивался в убежище. Вблизи от двери еще можно было разглядеть нахохлившиеся фигуры женщин, стариков, детей, сидевших на чемоданах и узлах, дальше всё пропадало во тьме. То, что темь тоже полна людьми, угадывалось по шорохам и по какому-то особенно гнетущему настроению, пропитывающему вонючий воздух. Тишину изредка прерывал вздох, плач или крик ребенка, громкий шепот, — если говорили, то почему-то только шепотом.
Сверху доносилась винтовочная и пулеметная стрельба, автоматная трескотня, ухали орудийные- взрывы, в городе шел бой.
Борис Васильевич Обухов, когда-то капитан царской армии, а потом шофер берлинского такси, сидел неподалеку от двери, прислонившись к стене и сжав, руками опущенную голову. Голова болела, тело ныло: в шестьдесят пять лет не легко просидеть в подвале четверо суток безвыходно. Выходить было некуда, над подвалом развалины, вокруг тоже развалины, а в них рвутся снаряды и пронизывают воздух пули.
Теперь взрывы удалились, значит, подходят. За много лет в Берлине Борис Васильевич так и не научился сносно говорить по-немецки, жить кое-как жил, а мыслями оставался в России. Сейчас Россия входила в Берлин, Россия пришла к нему. Это волновало, влекло, но было и жутко. Какая она? Что сделает с ним? За четверо суток он всё передумал. «Расстреляют, как белогвардейскую сволочь. Хорошо, если на месте, а может, потащат в Чеку. Как она, нынче называется? НКВД? Будут мучить. Или еще что?» Но в мучения и смерть не верилось, почему-то казалось, не может быть. А что может быть? И страшно было не за себя, не за свою жизнь, — хватит, пожил, — а за что-то еще, может быть, за свою мечту, за свою двадцатипятилетнюю изгнанническую и наверно слишком сентиментальную, а поэтому и немного стыдную любовь.
Проходили часы, дни, наверху не утихало, и мысли уже перепутались, притупились. Он сидел среди насмерть перепуганных немцев, в нудной паутине страха и ожидания, устав думать и ждать, и тупо смотрел в одну точку.
Борис Васильевич задремал и не увидел, как в изломанной дыре двери показался красноармеец. Прижимаясь к стене, солдат осторожно переступал через камни, выставив перед собой нацеленный в темноту автомат. В подвале тихо охнуло, шелестнулось, люди непроизвольно сжались, подались назад. Солдат щелкнул фонариком, в снопе света на мертвенных лицах засветились десятки застывших в нечеловеческом страхе глаз.
Смелее переступив, с автоматом на изготовку под правым локтем, солдат повел фонариком по подвалу, потом обернулся и крикнул:
— Давай сюда, калым есть!
Спустились еще двое. В невиданных Борисом Васильевичем пилотках и в кофтах-телогрейках с тесемками вместо пуговиц, еще держа автоматы наготове, они стояли и приглядывались. Вошедший первым был невысок и широк, похож на катыш, второй, худощавый, должно быть был подвижным и юрким, третий, высокий и спокойный, наверно, был самым серьезным.
— Подкалымить можно богато! — тонким голоском воскликнул юркий, и пошёл вглубь.
— Не боись, фрицы, мы вас от Гитлера освобождаем! — хохоча, кричал первый, с круглым лицом и веселыми глазами, и тоже подался к сжавшейся толпе, лучом света прорезая себе путь. Третий остался стоять у двери.
Со смехом и прибаутками, будто они были на прогулке, двое быстро шарили среди людей и барахла. Не прошло и минуты, как Борис Васильевич услышал хватающий за сердце женский вскрик:
— Was wollt ihr von mir? [1] Что вы хотите от меня?
— и хохочущий ответ курносого:
— Не бойсъ, голубка, давай добром!
Борис Васильевич поднялся. Сердце колотилось, тело трясла нервная дрожь, но он собрал силы и сказал, громко передохнув:
— Вы что безобразите, вы?
Солдаты мгновенно обернулись. Три автомата нацелились на Бориса Васильевича. Катыш, светя фонариком, быстро подкатился к Обухову.
— Ты русский?
— Кто бы я ни был, а безобразничать с мирным беззащитным населением не позволю, — твердо ответил старик.
— Власовец? — не веря, протянул катыш, разглядывая седую голову, морщинистое лицо и потрепанный пиджак Бориса Васильевича.
— Не. Наверно эмигрант. Из беляков, я таких видал, — тихо сказал юркий, смущенно поглядывал на старика.
— А что ты за немцев заступаешься? Что они тебе? — уже не так смело спросил катыш. Видно было, что солдаты смущены, высокий тянул юркого за, рукав и говорил: «Бросьте, ребята, пошли. Чего вы…»
— Я русский и мне стыдно за русских, если они позорят свою солдатскую честь, — продолжал Борис Васильевич, чувствуя себя как в бреду.
Читать дальше