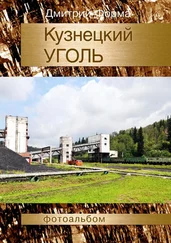Если же вернуться к двум остальным вопросам, то они в соответствии с американским планом выглядели так: поляки могут взять в свои руки управление на всей территории, которую они требовали. Документ о признании Румынии, Болгарии, Венгрии и в какой-то мере Финляндии воспримет русскую формулу: три правительства согласны, каждое в отдельности, изучить в ближайшее время в свете условий, которые будут тогда существовать, вопрос об установлении в возможной степени дипломатических отношений… Конечно, окончательный текст лишь в известной мере отразил русскую формулу, вобрав в себя казуистику англо-американской аргументации, которая эту формулу во многом обескровила: «Три правительства, каждое в отдельности», «в свете условий, которые будут тогда существовать», «в возможной степени дипломатических отношений»… Как было отмечено, оговорки обесценивали главную мысль документа — признание, но снимали возражения англосаксов.
Итак, конференция вновь обратилась к многосложному вопросу о репарациях — Эттли, как случалось потом неоднократно, ушел на время, и его место занял Бевин — узкогрудый Эттли испарился как бы невзначай, и грузному Бевину, наоборот, легко было явить конференции свои жидкие килограммы, заключенные в рогожку летнего костюма, как в мешок.
Взяв дирижерскую палочку, Бевин был самонадеян — тасовались проценты, простейшие, но английский министр был не силен в арифметике.
— У меня возникли сомнения, — признался англичанин простодушно. — Если вы получите требуемые вами проценты, то в ваших руках окажется больше половины германских репараций…
— Гораздо меньше, — возражал русский делегат, возражал осторожно, заметно щадя самолюбие англичанина. — Требуя пятнадцать процентов, мы даем эквивалент, это, собственно, обмен репарациями, а не репарации… Что же касается репараций, то надо говорить о десяти процентах, и у вас остается девяносто… — В глыбе, которую являл британский министр, русский пытался отыскать глаза, кротко мигающие. — Если мы получим семь с половиной вместо десяти, это будет несправедливо. Я согласен, чтобы было пятнадцать и десять. Это более справедливо. Американцы согласны — как вы, господин Бевин?..
— Хорошо, я согласен… — произнес англичанин — можно было подумать, что он согласился, не очень-то проникнув в существо расчетов.
— Я могу сообщить полякам, которые здесь находятся, о наших решениях насчет западной границы Польши? — спросил Трумэн русского делегата, обнаружив живость, какой до этого не было, — можно было подумать, что речь шла о решении, которое отстояли американцы, преодолев возражение русских, а не наоборот.
— Да, конечно… — сдержанно реагировал русский — он понимал, что просьба президента определена домашними интересами Америки, в которые не было охоты вникать.
Тамбиеву позвонил пан Ковальский:
— Нет ли желания отобедать в обществе небогатого польского вавилонянина?
Поляк непобедим: спор о вавилонянах живет в его памяти.
Тамбиев поехал. Корчма на ближней потсдамской окраине, с виду больше сельская, чем городская, с керамическими люстрами и грубо сколоченными столами, с кирпичными стенами, которые не тронула штукатурка, и дощатыми полами, тщательно оструганными, но крытыми не краской, а олифой — гостеприимная корчма с некоторого времени стала местом встреч корреспондентов, слетевшихся в Потсдам. Тамбиев был тут однажды.
Подали томленый картофель с тушенкой, заокеанской, не без помощи предприимчивого американского интенданта попавшей на немецкую кухню, а вместе с тушенкой и картофелем — по богатырскому, похожему на братины, черпаку с домашним пивом, ярко-коричневым, густым и холодным.
— Вас надо поздравить, пан магистр? — спросил Тамбиев, когда они, не без труда отодвинув тяжелые табуреты, заняли места за столом с диковинно толстой, но приятно глянцевитой столовиной.
— Да, сегодня Трумэн намекнул нашим, что три великих дали «добро» польским западным границам и землям…
— А Польша, сказывают, уже делит Радзивилловы угодья? — спросил Тамбиев не без радостного участия.
— Слава богу, начала делить!..
— А как Миколайчик, понравится ему это?
Пан магистр приумолк.
— Все не просто, товарищ Тамбиев. Понравится? Думаю, не очень… — Он продолжал молчать, отстукивая сухой ладонью по столовине. — Когда ехали в Потсдам, случайно оказались на Маршалковской — толпа опознала пана Станислава, зашумела, запела и взвила к небу. Не успел я опомниться, а пан Станислав уже над моей головой… Как писали в старых газетах, стихийное изъявление воли… Варшавяне — народ экспансивный…
Читать дальше