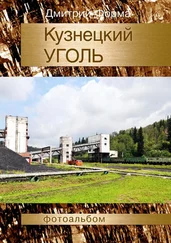— Да, взаимный компромисс, — подтвердил Бардин. — Ты же пойми: пока есть классовый антагонизм, тут бескорыстие относительно… Надо понять: не в натуре того мира бескорыстие, о котором говорим мы. Даже в их собственных отношениях расчет является знаком доверия, больше того, приязни. Доброе партнерство предполагает у них расчет, тем более он должен присутствовать, как они полагают, в отношениях с нами… Баш на баш? Да, баш на баш, но это не должно нас обескураживать — нам надо научиться трезвости… Трезвости!..
— Это все понятно… — повел грозной бровью Бекетов — в последнее время его брови прибавили черноты. Даже странно: виски прибавили серебра, а брови — смоли; видно, и это — признак возраста? — Все это понятно… Неясно иное: при чем тут высокие цели войны?.. Цели войны — одно, а расчет, который этим целям сопутствует, — другое?..
— Именно… если есть уступка, ищи: взамен чего… — произнес Бардин.
— Значит, ищи: взамен чего? — повторил Сергей Петрович и не преминул сказать себе: все-таки бардинский бог — трезвость, да-да, та самая всесильная трезвость, которой у нас прежде не было и, дай бог, не будет никогда, трезвость, исключающая и запальчивость романтиков, и опрометчивость увлекающихся, и одержимость тех, кто не очень хитромудр и, пожалуй, степенен и сострадание человечных, быть может даже в чем-то слабых… Но ведь Егор совсем не такой — быть может, это даже не столько знак характера, сколько времени, а если быть точным, то поколения? Нет, тут надо пораскинуть мозгами: поколения? И он повторил: и сострадание человечных, даже в чем-то слабых… И Сергей Петрович вспомнил иву над прудом, под мохнатую шапку которой занесло их с Бардиным здесь, в Потсдаме, и разговор о Сереже, о его жестоко-печальной кручине: «Жаль его, так жаль, что волком бы завыл!» Нет, тут кончается наше всемогущество — все мы подданные этой жалости, и дай бог, чтобы и впредь были ее подданными — мы не станем от этого менее добрыми…
Но мысль Бардина была сейчас отдана грешному делу — он хотел продолжения диалога, ждал его.
— Однако, если взять на ладонь эту бумагу в целом, она тоже являет собой обмен? — спросил Бекетов — он пристально посмотрел на друга. — Так сказать, перспективу… обмена?
— Да, конечно, перспективу, — воодушевленно поддержал Бардин — он был последователен в своих доводах и принимал их, как они были расположены на карте грешной действительности, — без ложных иллюзий. — Именно перспективу, какой она явится нам еще в этом году…
— Ты говоришь о Дальнем Востоке?..
— Да, конечно… — согласился Бардин. — Не будь Дальнего Востока, попробуй сдвинь с места того же Трумэна…
Бекетов закрыл глаза — слабый свет лампы был ему не под силу, — улыбка, едва заметная, касалась его губ.
— Ты что улыбаешься, Сережа?.. Разве так смешно?
— Смешно.
— Не разумею — почему смешно…
Но Бекетов молчал, только улыбка, едва приметная, как бы проявилась, стала явной.
— Не хочешь ли ты сказать, Егор, что есть случаи, когда обмена ищет и наша сторона?
— Мы — реальные политики, и иллюзии, ложные, не в нашем характере, Сережа…
— Спасибо… политик реальный.
Ночью, проснувшись, Бекетов рассмотрел на диване, стоящем у противоположной стены, спящего Бардина. Диван стилен, а по той причине не очень просторен, и Егор Иванович не без труда уместил на нем свое громоздкое тело. Он спал, подобрав колени к животу, вобрав шею. Что-то неодолимо лихое происходило с ним во сне — он вздыхал едва слышно, постанывая и невнятно причитая. И во сне беда удерживала его на своих горящих тропах. Видно, засыпая, он думал о Сережке, а переступив границу сна, продолжал сражаться за его жизнь — искал встречи со злой силой, казнил себя за сомнения, готовил к жертве, которая больше жизни… Бекетов встал над ложем друга, и огонь великой тревоги, объявший в эту минуту Бардина, будто перебросился на Сергея Петровича — трижды дорогой тебе человек был подле, казалось, ты волен расшибить цепи беды, сковавшие его, и ты должен был сказать себе, что не в твоих силах это сделать…
А между тем в более чем знаменательный первоавгустовский день, отмеченный всеми календарями как тридцать первая годовщина начала первой мировой войны, конференция собралась на свое заключительное заседание. Перед делегатами лежали тексты коммюнике и протокола конференции, разумеется, согласованные в своих главных аспектах. Именно в главных: на нынешнем заседании предстояло пункт за пунктом пройти тексты, и если не перебелить их, то легко выправить, при этом и стилистически. Как это ни странно, но делегаты уже находились в том блаженно-приподнятом состоянии духа, когда галера конференции с ее нелегким грузом пришвартована и можно размять плечи.
Читать дальше