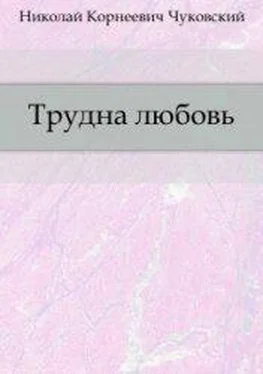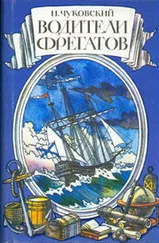— Зря, — повторил Устинович.
— Зря? Почему зря?
— Потому что она меня не любит, — сказал Устинович. — Ни вот столько. И не полюбит никогда.
Завойко замолчал. Долго молчал. Потом спросил:
— Правда?
— Правда, — ответил Устинович.
Он положил руку на рукав Завойко, и так, в молчании, они долго стояли друг перед другом.
— А меня она ненавидит! — сказал Завойко, и голос его дрогнул от боли.
— Неверно, — возразил Устинович.
— Нет, верно! — воскликнул Завойко. — Ненавидит! Как она со мной разговаривает!
— Простить тебе не может. Уверяет себя, что не может простить.
— Да что прощать! — воскликнул Завойко в отчаянии.
— Что ты ее вывез, а его не нашел.
— Но ведь ты-то все знаешь!..
— Я знаю. Только мы с тобой вдвоем и знаем…
— Ты ведь ходил со мной в лес и видел, что он мертвый сидел в самолете!
— Всё-таки я на твоем месте все бы ей рассказал, — проговорил Устинович. — Ну, первое время она больна была, не стоило ей рассказывать. Но уже больше года прошло…
— Она до сих пор надеется. Ты сам знаешь.
— Но ведь надо же ей когда-нибудь сказать! Хочешь, я ей скажу?
— Не смеешь! — крикнул Завойко. — Ты обещал, что не скажешь, пока я жив!.. Так не скажешь?
— Ну, раз ты не хочешь…
Криницкий понял, что встреча Завойко с Устиновичем окончится мирно и что беспокоиться нечего. Стараясь не шуметь, он повернулся и пошел прочь. Навстречу ему с запада подымалась темная туча, проглатывая звезды — одну за другой.
Ночью пошел дождь и лил не переставая весь следующий день.
Всю первую половину этого дня Криницкий просидел один в зарытой избе и писал очерк «Остающиеся на земле». О тех людях авиации, которые сами не летают, но без которых летчики не могли бы ни летать, ни сражаться. Об аэродромщиках, эксплуатационниках, мотористах, оружейниках, ремонтниках. О всех тех, про кого так часто забывают наши газеты, обычно прославляющие только непосредственных участников воздушных боев.
Он описал зарытую в земле прифронтовую деревушку, поход в лес за упавшим самолетом, нападение «мессершмиттов», маленькую ремонтную мастерскую, где из кучи перебитого хлама за несколько дней воссоздаются боевые машины. В вопросы техники он, разумеется, не углублялся, потому что не всякого читателя они интересовали, да и сам он был в них не силен. Он стремился показать, как люди относятся к своему делу. В очерке, естественно, нашлось место и для комсомольцев-зенитчиков, и для летчика, каждую ночь перелетающего через море на безоружном связном самолете, и для мечтателя-пропагандиста, пылко верящего в победу, в будущее и утверждающего, что мы живем на заре человеческой истории.
Криницкий писал о том, что видел вокруг себя, и потому ему казалось, что очерк у него получается живой, яркий. Задача, которую он перед собой поставил, казалась ему нужной и важной. Однако он не был убежден, что такой она покажется и редакции. Это так его беспокоило, что он позвонил на КП, и дежуривший там старший лейтенант Устинович, преодолев множество трудностей, соединил его по телефону с Ленинградом, с редактором. Криницкий старался говорить как можно убедительнее, но слышимость была неважная, аргументировать было трудно, и редактор, кажется, не заразился его пылом.
— Ну что ж, пишите, — ответил он. — Посмотрим.
Этот ответ несколько расхолодил Криницкого, но ненадолго. В конце концов, такой очерк можно послать и в центральные газеты. Там поймут, там уровень понимания повыше, и о людях прифронтового аэродрома прочтет вся страна. Увлечение его не пропало, и он опять засел за работу. Его не отвлекло от работы даже то, что редактор сказал в конце разговора:
— Между прочим, на ваше имя в редакцию пришли два письма. Я велел положить их на тумбочку возле вашей койки…
Это безусловно были те самые письма, которые он решил, не распечатав, отправить обратно. К его удивлению, он испытал странную радость, узнав, что они пришли. Он не отказался от своего решения, вовсе нет, он только подумал, что у него есть еще время обсудить с самим собой, как поступить. Может быть, он не эти письма отправит нераспечатанными, а следующие… Он работал, и мысль о том, что в редакции его ждут письма, доставляла ему непонятное удовольствие.
Шум дождя под землей не был слышен. Но потом вдруг начался обстрел. Взрывы перекатывались наверху из края в край, то приближаясь, то удаляясь, и пол под ногами у Криницкого тяжело вздрагивал. Когда снаряды ложились совсем близко, пыль сыпалась струйками на бумагу, на стол. Лампочка раскачивалась, свет мигал, горшки и чугуны в печке, оставшиеся от прежних хозяев, мрачно дребезжали.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу