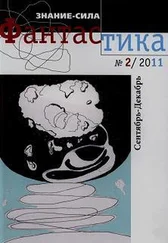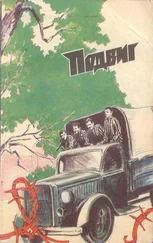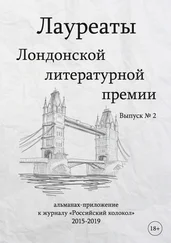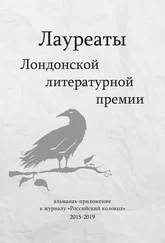Быкова прежде всего интересует психологический, нравственный аспект поведения того или иного персонажа в подобных условиях. Слова «герой», «героика», «героический» отсутствуют в его творческом словаре. Но, казалось бы, локальный подход к исследованию характеров на самом деле оказывается крупномасштабен. Понятия — долг и совесть — даются писателем, как принято говорить в кино, крупным планом. Частное приобретает черты общего, личный поступок отражает целое. В любом из произведений Василя Быкова активно проявляющих себя персонажей всегда немного. Ему достаточно нескольких ярких — чаще контрастирующих — характеров и действенного фона, на котором эти характеры были бы видны отчетливо. Масштаб происходящего за пределами данной ситуации укрупняет ее, сообщает ей свои параметры. Проблематика повести или рассказа таким образом расширяется, и локальный подход к конкретному случаю, событию логически приводит к созданию характера героического склада, к изображению героического действия или поступка.
Несколько лет назад на страницах «Литературного обозрения» (1973, № 7) Василь Быков, рассказывая, как создавалась повесть «Сотников», писал: «Прежде всего и главным образом меня интересовали два нравственных момента, которые упрощенно можно охарактеризовать так: что такое человек перед сокрушающей силой бесчеловечных обстоятельств? На что он способен, когда возможности отстоять свою жизнь исчерпаны им до конца и предотвратить смерть невозможно?»
Необходимо отметить особо: писатель никоим образом не предлагает упрощенной схемы — вот человек, способный и перед лицом смерти остаться человеком, и вот трус и подонок, изначально готовый выбить опору из-под ног казнимого товарища или выстрелить в спину женщине. Все гораздо сложнее психологически, все четко мотивировано, но исподволь, не в лоб.
Рыбак в повести «Сотников» предстает перед читателем как смелый, лихой партизан и надежный товарищ, который и огнем прикроет раненого и не оставит его одного. И в Голубине («Пойти и не вернуться») мы не увидим на первых порах никаких отталкивающих черт — человек как человек.
Тревожащие наше отношение к происходящему, к действующим лицам черточки, чуть заметные штрихи накапливаются постепенно. В какой-то из моментов их движение и масса вдруг обретают свою страшную осязаемость. Человек еще сутки назад вызывавший у нас чуть ли не симпатию, становится предателем и палачом, а другой превращается, по существу, в зверя.
Но ведь существовали определенные предпосылки к подобной психологической альтернативе, что-то сформировало ранее поведение одного и другого в адекватной ситуации. Быков поступает в данном случае как подлинный художник — он ставит в равные условия и читателя, и Сотникова, и Зоську: у всех до самого последнего предела еще живет вера в человека. Еще точнее: читатель уже все понял, разглядел сущность Голубина, страшный он, не человек, а нелюдь. Зоська же, по существу, спасает его от партизанского суда, давая Голубину возможность вернуться к человеческому состоянию.
И еще: отбить танковую атаку врага, взорвать склад боеприпасов — это в понимании Василя Быкова не столько подвиг, сколько обыкновенная солдатская работа на войне, воинский долг. Подвиг — другое, подвиг — остаться на войне человеком, не потерять, а выявить свою нравственную сущность, которая и в предсмертный миг остается неколебимой. Два человека, поставленные в одинаковые обстоятельства, должны сделать самый главный в человеческой жизни выбор — умереть с честью или купить себе жизнь ценой подлости и предательства. Проблема героического как бы вырастает из художественного исследования нравственной устойчивости Сотникова, Ивановского, Зоськи и многих других, помогающей понять закономерность их мужества и стойкости в самых крайних ситуациях.
В повести «Дожить до рассвета», спрессованной по времени до предела (одна ночь), происходит непоправимое: фашисты передислоцировали склад боеприпасов, и рейд группы лейтенанта Ивановского во вражеском тылу оказался бесполезным. Задание невыполнимо, часть бойцов погибла, сам лейтенант дважды ранен. Ивановский не помышляет ни о каком подвиге. Для него, как для Сотникова, как для Зоськи, важно одно — идти до конца. Гибнет ушедший на разведку красноармеец Пивоваров, оставшийся с лейтенантом. И в конце концов последней гранатой Ивановский подрывает и себя и немецкого обозника, действуя в полном и прямом смысле выражения «на крайнем пределе сил».
Читать дальше
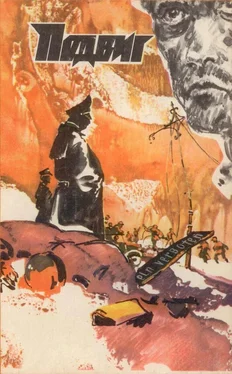

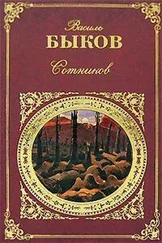
![Василь Быков - «Подвиг», 1989 № 05 [Антология]](/books/79887/vasil-bykov-podvig-1989-05-antologiya-thumb.webp)