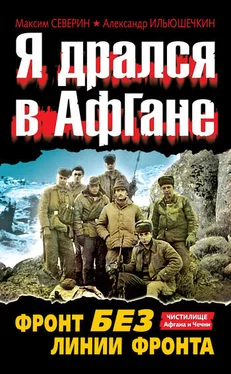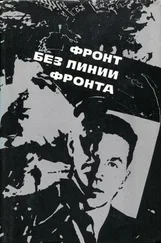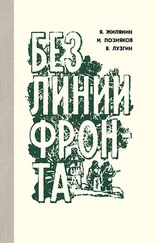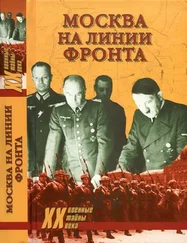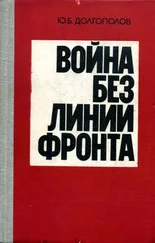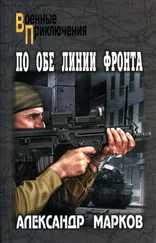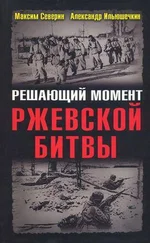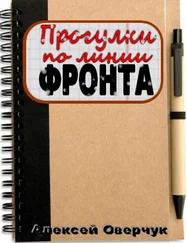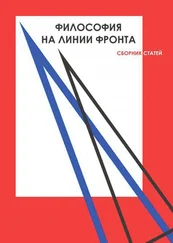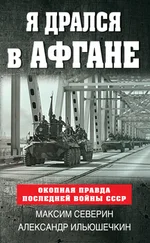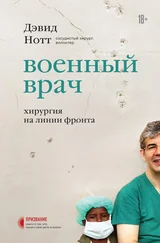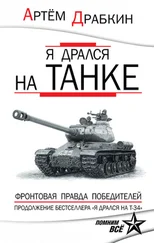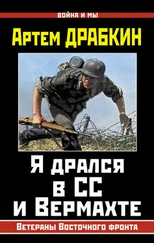— Какой положительный опыт вы вынесли для себя с той войны?
— Умение правильно интуитивно оценивать обстановку — это несомненное достоинство большинства ветеранов войны в Афганистане. Но эта интуиция порой играет с тобой злые шутки: так, пару лет назад мы с женой спокойно спали, как вдруг раздался громкий звон разбитого стекла, и, как мне уже рассказывала жена, я с диким ревом подбежал к разбитому балконному окну, оказалось, что ничего страшного: пьяная молодежь всего лишь ошиблась окном, разбив пустой пивной бутылкой мое вместо соседского. А я интуитивно пошел в безоружную атаку на невидимого противника, зачем кричал — не знаю, но, видимо, хотел напугать, и если бы на месте разбитого окна стоял человек, то на ногах простоял бы он недолго: автоматика сработала, а сознание отключилось. Обратной стороной этого стали сдержанность и подсознательное понимание психологии стоящего перед тобой человека. Я считаю, что мне повезло в том, что попал в Афганистан я уже зрелым мужчиной, ведь мне было далеко за тридцать, 18-летние мальчики, конечно, пострадали там намного серьезнее.
Устинов Александр Петрович

Сперва я был направлен на службу в город Иолотань Туркменской ССР. То, что вскоре окажемся в пекле затянувшейся войны, мы поняли из слов нашего замполита, остановившего собравшегося в очередной раз нас муштровать ротного, сказавшего: «Не трогай ребят, пусть едут туда, куда они едут». Спустя некоторое время, в феврале 1985-го, я оказался в Афганистане. Мы только вошли в Афган и остановились у Пули-Хумри, как нас выстроили в шеренгу и показали тело заживо сожженного «духами» солдата, найденное разведчиками в горах, фамилия его, как сейчас помню, была Костюк. Коммунисты, конечно, были мастерами психологической «промывки мозгов»: увидев обгорелые останки, мы сразу поняли, куда попали. Это впечатление у меня осталось на всю жизнь.
Задачи у моего подразделения были специфические: мы охраняли стратегически важные трубопроводы, по которым для наших войск перекачивались керосин и солярка, шедшие из Союза в Кабул на нужды 40-й армии, поэтому и эмблема у нас была необычная — с изображением трубы с вентилем. Система трубопроводов тянулась от границы с СССР вдоль дороги на Кабул. Наш взвод в количестве 22 человек прикрывал выделенный ему отрезок, причем личный состав взвода оставался неизменным с самой Туркмении, и сменяли нас тоже повзводно. Больше полугода на одном месте нас не держали, так как за этот период психологическое напряжение нарастало до максимума. Я зубы свои испортил только тем, что от нервов во время обходов трубопровода постоянно жевал конфеты. Хотя свой веселый характер я там сохранил, многие этому удивлялись, а я всегда говорил, что без юмора никак жить нельзя, к тому же смех придает человеку огромный заряд бодрости, помогая перенести тяжелую ситуацию.
Трубопровод был довольно уязвимым объектом, после нескольких удачных выстрелов «духов» начинались серьезные перебои в подаче топлива — и нам нужно было выходить к месту прорыва, чтобы прикрыть ремонтников. А выходить — это страшное дело, «духи» ведь любили повредить трубопровод и устроить рядом засаду. И мы шли, зная, что нас там может поджидать что угодно.
Наши посты охранения, которые мы называли «точками», стояли вдоль всего трубопровода на удалении 700–1000 метров один от другого, связь между ними поддерживалась с помощью проводных полевых коммутаторов. Личный состав каждого поста состоял из четырех человек, вооруженных АК-74 и гранатами, никакого тяжелого вооружения по штату не было. Старшим был сержант либо младший сержант, мог быть и рядовой, только старший по должности. Офицеры бывали у нас только на Новый год. Все сооружения «точек» были построены нашими солдатами еще в самом начале 80-х. «Точки» не прикрывались минными полями, ставили только сигнальные мины, однако на всех небольших окошках были закреплены металлические сетки, чтобы душманы ненароком не закинули нам гранату. Когда я спал, автомат всегда стоял возле моей кровати, под подушкой лежала граната — выжить всегда хотелось, для этого мы, как могли, ухищрялись.
Взвод охранял один участок ровно полгода, после чего его сменяли в полном составе. Район города Пули-Хумри, у которого мы стояли, недаром еще в XIX веке прозвали «Долиной смерти» — тогда там полегло немало англичан.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу