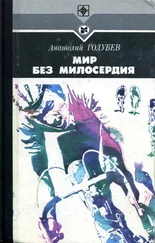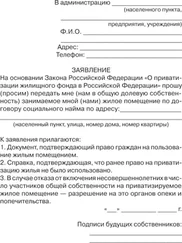В Старом Гуже стояли довольно спокойные дни. После того футбольного матча даже случайные немецкие самолеты обходили город стороной, но привычная тишина, соседствуя с тревожными вестями, шедшими с фронта, пугала еще больше.
До районного центра он ехал на попутной машине. Раза два шофер останавливал полуторку и, подняв капот, копался в железных внутренностях мотора. Потом они трогались в путь. Наконец километра за три до районного центра полуторка заглохла, и шофер, молодой боец в промасленной гимнастерке, устало сказал:
— Если торопишься — дуй пешком! Кобыла сдохла! Динамо развалилось…
Юрий проторчал возле мертвой полуторки еще с полчаса — неловко было бросать симпатичного парня в беде. Но, когда шофер, хлопнув капотом, отказался рыться в моторе, Токин двинулся пешком.
Вечерело. Может быть, из-за неверного вечернего света, может быть, потому, что понадеялся на память, он сбился с пути и долго плутал по лесным, похожим одна на другую тропинкам. Только глубокой ночью вышел на огни и, к своему удивлению, а еще большей радости, увидел, что попал в Знаменку. Братнина хата стояла второй с краю. Он громко застучал в дверь, задвинутую на щеколду. В потемках раздался голос золовки:
— Ктой-то?
Отозвавшись, Токин услышал громкие радостные восклицания, потом его пустили в хату, и щеколда вновь легла на место.
В хате было темно, видно, уже давно легли спать, и разобрать кто где было трудно. Юрий услышал с печи голос матери. И хотя она запричитала быстро и тревожно, Юрий как-то сразу успокоился: мать жива и здорова. В последнем, как выяснилось, он ошибся. Пока собирали с лавок и печи старые тулупы и залепляли ими с помощью рогачей маленькие полуслепые окна, чтоб свет не попадал на улицу, Юрий стоял у стола и не решался двинуться. После вечерней прохлады духота наглухо закупоренной хаты напоминала парную старика Бонифация.
Наконец засветилась «трехлинейка», и в прыгающем неверном свете Юрий разглядел мать, свесившуюся с печи.
— Живой? — спросила она и вновь запричитала: — А я уж извелась — некормленый, обед оставила только на два дня. А тут еще война! Узнала — обмерла! И видеть тебя уже не чаяла — думала, в армию забрали! Думала, убьют и поцеловать глазки твои не доведется…
— Да полноте, полноте, мама! — Юрий стал на лавку и, обняв мать, поцеловал в лоб. — Жив-здоров, никакой армии. Я тоже беспокоился: где пропала?! Уж псе передумал. Со дня на день ждал, не вытерпел и пошел…
— Правильно сделал, — вернувшаяся из сеней золовка поставила на стол крынку с молоком и большую миску с холодным вареным картофелем. — У мамани беда — ранила тяпкой ногу на прополке. Рана пустяковая, а вот не уберегли. Пухнуть стала, пухнуть, фельдшера вызвали, он сыпал лекарством, красноту сбил, а рана не затягивается — все плачет и плачет гноем.
— И ходить не можешь? — спросил Юрий, обернувшись к матери.
— Не, сынок, не могу! Как стану — по кости боль до самой макушки отдает. Думала, здесь и концы оставлю.
Юрий засмеялся.
— Перестань, маманя! Меня похоронила, себя тоже. Мы еще поживем.
— Ой, недолго жить! — заныла золовка.
— А Федька-то где? — догадываясь о причине ее слез, спросил Юрий.
Та зарыдала еще громче, а мать с печи ответила вместо нее:
— Ушел Федька, прямо в среду добровольцем и ушел. Он же активист был, спортивный, охотник…
— Ну полно тебе, Лидуха. Вернется Федька. Там хоть и затянулось дело, но ненадолго. Вон меня в военкомате и слушать не стали. Говорят — катись домой, без тебя разберемся.
— Ой, как бы так! А сердечко мое чует, не видать более Федора.
— Да что вы, бабы, белены объелись?! — закричал Юрий, и от крика пламя «трехлинейки» за новым толстым стеклом закачалось из стороны в сторону, и по хате побежали зыбкие тени. — Или потемки на вас так действуют?! Все о смерти, все о смерти!
— Так ведь дело какое! Примет дурных много. Матери ногу поранило, раз. Телка сдохла невесть отчего, два. Ветеринар на обследование увез в район. Грибов ныне тьма-тьмущая, три, — она опять принялась всхлипывать.
Юрка обнял золовкины плотные плечи и, наклонившись, снова сказал:
— Будет. Все обойдется…
— Ты ешь, ешь, — подала голос мать. — Мы уже вечеряли.
Лидуха утерлась платком, повязала его на голову и вновь исчезла в сенях. Появилась с двумя большими деревянными блюдами, которые Федор, большой искусник, долбил сам каким-то своим хитрым способом из старых узловатых корневищ. Блюда казались телесными, с прожилками и такими разводами, словно кто-то специально и тщательно раскрашивал их долгими зимними вечерами. В одной миске горой золотилась капуста. Другая по края была наполнена прошлогоднего засола огурцами и зелеными помидорами.
Читать дальше