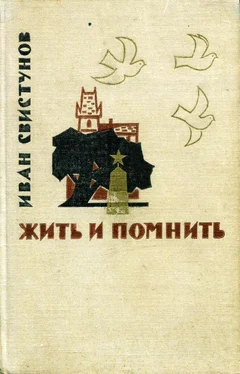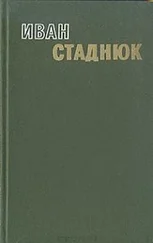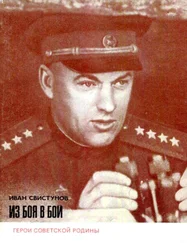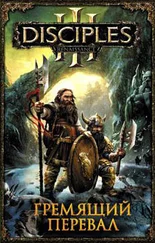Остается старший сын — Станислав. Высокий, представительный, холостой, хорошо одевается, занимает видный пост в Варшаве. Такие нравятся женщинам. К тому же Станислав был в Советском Союзе, говорит по-русски, что может облегчить их общение. Пожалуй, Станислав!
Чем больше обдумывал и взвешивал Осиков все «за» и «против», тем несомненней становилось для него, что между Курбатовой и Станиславом Дембовским имеет место самая вульгарная интрижка.
Тяжелое чувство ревности травмировало душу Осикова. Все женщины такие! Ехала на могилу мужа-героя, прикидывалась святошей, сморкалась в платочек, и вот на тебе! Правда, еще ничего определенного между ними нет. Любовь их в самом зачаточном, так сказать, эмбриональном состоянии. Но зародыши растут быстро. Сегодня яйцо, завтра головастик, а там и взрослая жаба.
Что же делать? Запретить не запретишь! А что, если откровенно поговорить с Курбатовой, признаться ей в любви, может быть, даже сделать предложение? У него несомненные преимущества перед Станиславом Дембовским. Он советский гражданин, у него неплохое служебное положение, квартира в Москве, есть кое-какие сбережения на черный день. А что чужестранец? Все с ним шатко, ненадежно.
Правда, женитьба не такой шаг, чтобы решаться на него в пожарном порядке. Известно: поспешишь — людей насмешишь! И сам себя успокаивал: ничего! От предложения до бракосочетания — дистанция огромного размера. Главное сейчас — удержать Курбатову от сближения со Станиславом Дембовским. Там видно будет. В конце концов признание можно сделать в такой форме, чтобы был открыт путь к отступлению. Не давать никаких обещаний, говорить без свидетелей. В случае чего — можно и на попятную. Ей не семнадцать лет — переживет!
Выбрав однажды удобный момент, Осиков предложил:
— Отличнейшая погодка, Екатерина Михайловна. Давайте пройдемтесь. Да и поговорить с вами надо по одному важному для меня вопросу.
Екатерина Михайловна, как ни странно, догадалась, о чем пойдет речь. Ни в словах, ни в тоне Осикова не было ничего особенного, примечательного. Обычное приглашение. Все же Екатерина Михайловна подумала: не объяснение ли — не дай бог! — в любви. По взглядам Осикова, которые она ловила на себе, по его елейному тону, каким он с некоторых пор стал с ней разговаривать, догадывалась: нравится ему. Про себя улыбалась: вот чудак! Неужели и он рассчитывает на успех у женщин?
И не ошиблась. Видно, есть у женщин особое чутье на такие вещи!
Начал Осиков издалека. Пространно, со многими подробностями и отступлениями говорил о своем безрадостном детстве, которое провел в большой вечно голодной и вечно болеющей семье, где малограмотные и душевно грубые родители не очень пеклись о своем многочисленном потомстве. Говорил о своей суровой юности, о рабфаке, на котором учился, получая стипендию в сумме пятнадцати рублей ноль-ноль копеек в месяц, как однажды всю зиму проходил в осеннем плаще и кепке (при московских-то морозах!). Юность его совпала с первыми годами коллективизации и продовольственными затруднениями, и он питался в основном винегретом и бывшими тогда в употреблении и ныне совсем исчезнувшими селедками иваси. Не знал он тогда ни настоящей дружбы, ни нежных привязанностей.
Жил один, целиком отдавался работе. Потом война, эвакуация, жалкая каморка в Омске… Так прошли годы…
Осиков снова повторил уже известную Екатерине Михайловне историю своей неудачной женитьбы. Случайной, по недосмотру. К тому же отец жены оказался еще и уклонистом. Семейная жизнь не получилась.
Но теперь его одолевает одиночество, ему становится в тягость холостой, неустроенный быт. Все чаще и чаще его донимает бессонница. К тому же при его положении и его возрасте холостой образ жизни обращает на себя внимание окружающих, и особенно начальства, дает повод к разного рода догадкам и домыслам, порой оскорбительного свойства.
Упомянул Алексей Митрофанович и о той ночи, когда стало плохо с сердцем и некому было накапать в рюмку валокордина, вызвать «неотложку».
Все, что говорил Осиков, была чистая правда, и Екатерина Михайловна это чувствовала и верила ему.
Говорил Осиков и о том, что многие считают его сухарем и даже вредным человеком, не очень расположенным к людям. Что ж, для этого у них, видимо, есть основания. Может быть, его профессия кадровика наложила на него отпечаток осторожности, щепетильности или даже подозрительности: что есть, то есть.
Скромно и искренне Осиков признался, что, по всей вероятности, он немного сделал людям добра, не шел к ним с открытым сердцем, но зато за всю свою жизнь — она может поверить — не сделал никому зла, не сотворил ничего плохого и теперь прямо и открыто смотрит всем людям в глаза.
Читать дальше