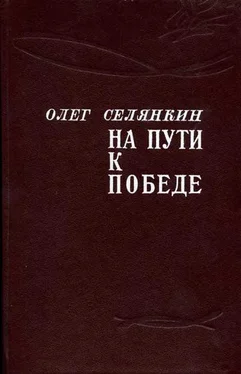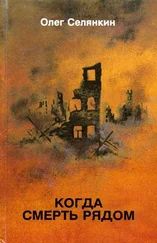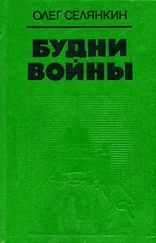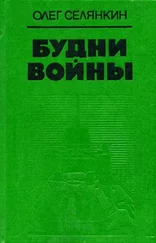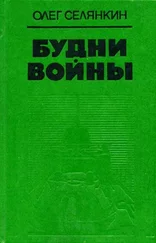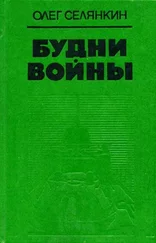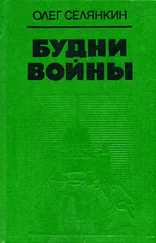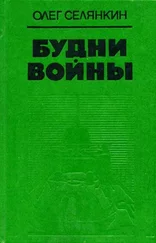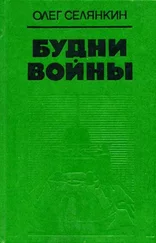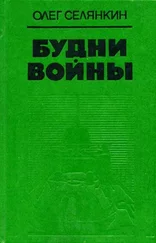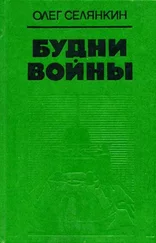Остальные поддержали его восторженным ревом. И тут же Карл предложил в одну из ближайших ночей наведаться в тот поселок, чтобы привести в исполнение приговор, вынесенный сердцем. Спросили: а как смотрит на это господин Густав? Тот ответил, безразлично пожав плечами, что Германия фюрера не намерена вмешиваться во внутреннюю жизнь эстонского народа. Но, когда он, Андреас, посетовал, что у него, к сожалению, вообще нет оружия, подарил ему свой парабеллум.
И сегодня от отвращения к себе передернулся Андреас, вспомнив расправу над членами тех двух семей.
Когда чудовищные подробности той ночи стали известны в родном поселке и дома, отец и сказал, что отныне у него нет сына, что отныне он, Андреас, пусть забудет дорогу к этому дому.
Велик и справедлив был гнев отца, и он, Андреас, не посмел покаяться даже в том, что только присутствовал при тех убийствах, клятвенно заверить, что на его руках нет человеческой крови.
Выгнал отец из дома — куда податься? Проситься к кому-нибудь постояльцем — гордость не позволила; да и понимал, что в этом случае обязательно последуют вопросы о причине ссоры с отцом. Вот и пришел к господину Густаву, сказал ему, что хочет начать самостоятельную жизнь, хочет помимо воли отца, и поэтому, чтобы всегда иметь обед, ищет работу. Какую? Любую. Допустимо ли привередничать, если ничего не имеешь, если даже крыши над головой у тебя нет? Господин Густав особо не любопытствовал, правда, все же спросил, почему они поссорились с отцом. Ссору Андреас отверг начисто.
Господин Густав определил его в полицию. Он же помог и с жильем, подсказав, полицейскому начальству, чтобы его, Андреаса, поселили в доме, который ранее принадлежал эстонцу-коммунисту. Конечно, не весь дом отдали, а лишь комнатку в нем. И стоял тот дом не в родном поселке, а в пяти километрах от него. Туда, чтобы скоротать ночь в одиночестве, он и шагал, когда встретил Максима.
Почти за два месяца службы в полиции Андреас многое узнал и понял. Прежде всего то, что боши никогда не уйдут из Эстонии, если им крепко-крепко не поддать под зад коленкой. Ишь, даже старый Таллин поспешили в Ревель переименовать!
Другое открытие, которое он невольно сделал, оказалось не менее потрясающим: оказывается, по всей Эстонии и почти одновременно волной прокатились еврейские погромы; не за какую-то страшную вину безжалостно уничтожались целые семьи, а только за то, что они еврейские.
Теперь Андреас точно знал и то, что деньги, на которые его так щедро угощали неожиданные «друзья», — плата за те и другие подобные погромы, плата за вещи и одежду убитых.
Вот и ворочался по ночам Андреас на своей узенькой койке, все думал, думал. Чаще же и больше всего о том, как выкарабкаться из этой вонючей трясины, в которую сам залез по уши. Конечно, проще всего набраться Смелости и прийти домой, во всем чистосердечно повиниться. Но разве он, Андреас, не настоящий мужчина, разве у него нет мужской гордости?
В лесах, говорят, появились советские партизаны. Вроде бы — можно убежать к ним и делом доказать, что он, Андреас, все понимает правильно. Только успеет ли он хоть что-то доказать делом? Полицейские, когда к ним в лапы попадает партизан или лицо, подозреваемое в связях с партизанами, долго не церемонятся. Почему бы точно так же не поступать и партизанам, если они поймают полицейского? За него будет свидетельствовать то, что он пришел добровольно? Конечно, будет. Однако он, Андреас, не поверил бы такому человеку: политические убеждения не штаны, их по обстановке меняют только подлецы.
Наконец, как быть с присягой? Ведь он, положив руку на библию, торжественно поклялся, что до последнего своего дыхания будет верой и правдой служить новым своим хозяевам?
Верой и правдой… Он уже и так давно нарушил присягу, не выдав отца и его товарищей. И никогда не выдаст…
А ну их к черту, все эти думы, сомнения! Вот придут отец с Максимом, и пусть сбудется то, что ему, Андреасу, написано на роду!
Принял столь печальное решение — полегчало на душе. И уже спокойно дотянулся до ветки, валявшейся на снегу, через колено переломил ее и не бросил, а по-хозяйски положил в костер.
А хлопья влажного снега все падали, падали…
Дядюшка Тоомас, казалось, нисколько не удивился ни тихому стуку в окно дома на тыльной его стороне, ни тому, что под окном стоял Максим; разглядев его и знаки, которые тот подавал, он кивнул и пропал минут на пять. Потом чуть слышно скрипнула дверь, и вот он, дядюшка Тоомас, стоит перед Максимом, стоит в своих огромных рыбацких сапогах, но в меховой куртке и шапке-финке. Вроде бы и ни искринки радости в нем не высеклось, однако ожидание неизвестно чего читалось на его лице. А Максим сейчас не мог притворяться равнодушным, он в искреннем порыве обнял дядюшку Тоомаса, считанные секунды простоял, прижавшись к нему. В ответ дядюшка Тоомас только и сказал:
Читать дальше