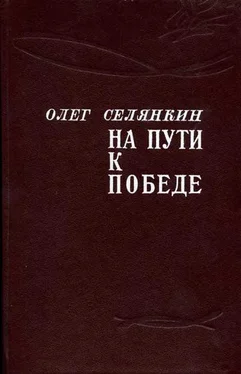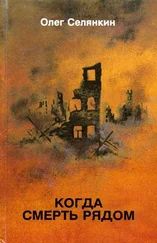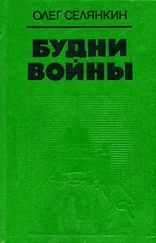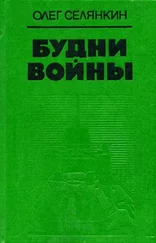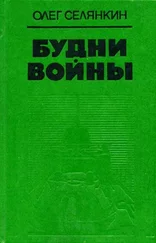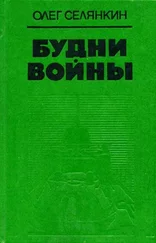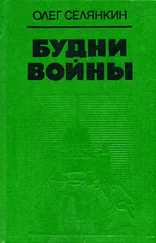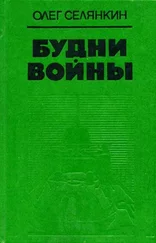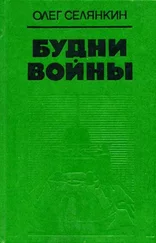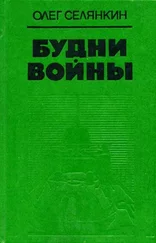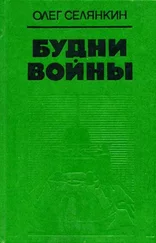— Эти патроны, товарищ лейтенант, можно сказать, наша личная собственность, на собственные хлебные пайки выменянная.
— Как так — выменянная? У кого выменянная?
— Или думаете, в кольце блокады весь народ с одинаковой душевной закалкой оказался? Здесь и сволочи встречаются…
И опять мысли, мысли. Первая, родившаяся сразу, — того сукина сына следует немедленно разоблачить, отдать под суд военного трибунала! За то, что незаконно и хищнически наживается на народной беде! И тут же в голову приходит другое: а удастся ли сейчас убедительно доказать это? Ведь эти патроны наверняка нигде не числятся, ни по одной приходной ведомости у того подлеца не проходят. Значит, если его сграбастают и начнут строгий спрос, он смело отрапортует, что подобрал бесхозное имущество, еще думал, куда его деть, а тут матросня и заявилась, пристала с ножом к горлу: «Продай!» Ну и отдал. А что хлеб за них взял… Виноват, конечно. Только кому охота от голода пухнуть? И еще добавит: или ему не надо быть в силе, чтобы отпор фашистам дать, если опять попрут?
И Максим, чувствуя, что у него нет сил сердиться на матросов, спрашивает единственное;
— Почему же вы, черти соленые, меня обошли, когда эту мену затеяли?
— А разве положено командиру знать, что его бойцы свои хлебные пайки кому-то отдают? — нахмурился Мехоношин.
— И вообще эти патроны найдены нами, и точка! — вклинился в разговор Василий.
И тогда Максим сказал сравнительно миролюбиво, чтобы еще больше не накалять атмосферу:
— Ладно, пока хрен с ним, с тем подлюгой. До поры до времени забуду о нем. Но так и знайте: как только станет полегче общая обстановка на фронте, как только появится у меня время капитально этим делом заняться, дружба моя с вами врозь пойдет, если того подонка мне не покажете. Договорились?
— Слово даю, лично покажу, — охотно заверил Василий, прозванный товарищами Одуванчиком за постоянную солнечность в голубых глазах, за то, что, знакомясь с девушками, неизменно говорил: «Вася — сын собственных родителей. Когда полюбите, можно и просто — Василек».
Сказал это Одуванчик, преданно глядя в глаза лейтенанта, а тот сразу вспомнил то, что случилось на третий или четвертый день его командования взводом. Тогда в одной из деревень, через которую им довелось отступать, какая-то женщина, плача скорее от обиды, чем от негодования, поведала им, что совсем недавно здесь были двое вроде бы наших солдат, что они не только у нее, а и у всех прочих односельчан рылись в комодах, сундуках и ларцах; взяли они что-то у других или нет — этого она не может утверждать, но у нее не стало золотого колечка, того самого, которое муж, как память о себе, оставил ей, уходя на эту кровавую войну: дескать, если не вернусь с полей сражений, вручи тому, кто мужем нашей дочери станет.
Одуванчика и еще пять матросов послал тогда он, лейтенант Малых, в погоню за теми двумя, наказав искать взвод на новом рубеже обороны, указанном командованием. Матросы приказ его выполнили: поймали мародеров, сводили в деревню на опознание, вернули хозяевам украденное у них и лишь потом доставили негодяев во взвод, чтобы командир решил их судьбу. Он, Максим, чтобы все по закону было, чтобы трибунал вынес свой приговор, велел тех бандитов доставить в штаб бригады.
Минуло с час — вернулись матросы. Он, конечно, спросил, почему так быстро. И тогда, точно так же солнечно глядя в его глаза, Одуванчик доложил, что тех двух они с рук на руки передали солдатам, которые по срочному делу спешили как раз туда, где располагался трибунал. А уже завтра, когда пришлось снова отступать под ударами фашистов, случилось так, что он, Максим, увидел тела тех мародеров, продырявленные автоматными очередями. Разумеется, грозой обрушился на Одуванчика и его товарищей, всеми земными карами грозил, но те незыблемо стояли на своем: с рук на руки передали этих неизвестным солдатам и во взвод немедленно вернулись, так откуда им знать, что потом, после их ухода, здесь произошло?
Значит, и этому сукину сыну матросы уже вынесли приговор…
А поздним вечером, когда в трубе печурки противно выл разгулявшийся ветер и земля вздрагивала от ударов волн, накатывающихся на берег, когда все обалдели от долгого молчания и своих бесконечных дум о доме и семье, кто-то и сказал мечтательно:
— Эх, сейчас бы на родную коробочку…
Прозвучал этот своеобразный крик матросского сердца — заговорили все, и каждый обязательно о своем корабле, расхваливая его, приписывая ему такие тактико-технические данные, какими он не обладал и в лучшие свои годы. Другие запросто могли одернуть завравшегося, но они терпеливо выслушивали его до конца, чтобы потом немедленно заявить:
Читать дальше