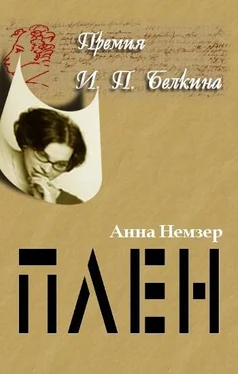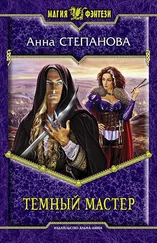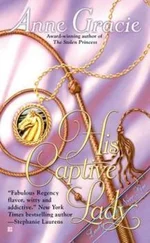— И сдал его немцам.
— Послушай, только не надо громких слов! Я могу тебе объяснить, но ты туп и вряд ли поймешь. Туп и пошл — прости меня. Твое здоровье! Ты пошл, потому что мыслишь пошло. Что такое сдал? А вот послушай, как я мыслил. До конца войны — недели. Явно сейчас придут наши и меня освободят. Все протоколы допросов попадут в смерш — и там узнают все, что я говорил на допросах. Ты скажешь — и молчал бы себе в тряпочку? Неет, милый мой, вот тут ты пошл. Я им не Зоя Космодемьянская! Я не хотел быть нашим советским страстр… страпст… страстотерпцем! Тут наоборотная ситуация: молчать — значит шкуру спасать. Этого я не мог никак, у меня гордость, и убеждения, и врожденная неприязнь ко лжи.
— Экие выверты! То есть это ты истину возлюбил?
— Молчи!
— Нет-нет, я тебя слушаю и очень внимательно. Но ведь как интересен наш советский человек — трудно смошенничать без санкции, без индульгенции…
— Урод! Ты ничего не понял!
— Милый мой, помолчи одну минуту и дай мне сказать, я-то как раз все понял, я как мало кто тебя понял. Не тронь мою водку, что тебе неймется! Я сам тебе налью, а то опять мимо. Гляди, вся скатерть мокрая! Ты мне сейчас расскажешь, что в этом плену… у этих немцев все чисто, аккуратно и весело. Что сами вы в Рохмани, чуя приближение победы, чуть не спились от отчаяния. Что нигде так страшно и безысходно не пили, как в армии победителей — и тем страшнее был контраст с бодрой армией побежденных. Что ты — как это говорится? — хлебнул другой жизни, о да. Ну а дальше… из-за бессмысленности твоих сведений разговор у вас на допросах шел все больше на личные темы — и тут-то ты оттянулся! Ты себе сказал: никогда и нигде я не был так свободен, как в плену — и восхитился этому парадоксу и поверил в него свято. И тогда ты дал себе санкцию… или индульгенцию — и заговорил свободно с вышестоящими, с облеченными властью — властью в том числе над тобой! — ты с ними заговорил на равных. И, упиваясь этим ощущением, ты им с радостью все рассказывал, и про иприт-люизит, и про Вольск — и я даже думаю: не обрадовался ли ты, вспомнив случайно этот Вольск? Так ты наконец-то смог быть им полезен хоть чем-то. И не подумал ли тогда, посмеиваясь про себя: вот, дескать, завтра полетит немецкая эскадрилья Вольск бомбить? И кто бы мог подумать, что она вдруг возьмет да и полетит? Удивительные какие бывают дела и совпадения, и все эти ваши химики из Вольска, и эскадрилья…
— Пошел вон!!
— Ох, не ори ты так! Ничего нового я тебе не сказал, даже скучно. Я ухожу и сам. Давно пора, кстати, а то я у вас тут вроде приживальщика. Прощай. Я не думаю, что нам стоит встречаться.
Москва, 1981 год
Через неделю после их возвращения из Венгрии с Геликом случился странный казус, какого никогда не бывало — днем, пока никого не было дома, он один напился до потери сознания. Напился очень странно. Гелена пришла с работы — непоздно, часов в пять! — и нашла его на полу в кухне, а в гостиной, где он пил, на столе стояли две пустые бутылки — водочная и коньячная. Гелик ни-ког-да! не пил водки, даже запаха не терпел! Рюмка меж тем была одна, и одинокое блюдечко с половинкой вареного яйца. Весь вечер и всю ночь прометались — Гелику было так плохо, что Гелена порывалась вызывать неотложку, а Виктор хохотал: мать, они тебе предложат вытрезвитель! — Черт знает что такое это было, немолодой уже человек, совсем не самый здоровый. На следующий день, чуть очухавшись, он мутным голосом спросил — Толя не появлялся? — При чем здесь Толя?! — возопила Гелена. — Вы с ним, что ли, пили? — При слове «пили» Гелик мучительно сморщился; в голове гремело бесса ме мучо на какие-то странные, невыносимо знакомые слова «Грабили нас грамотеи десятники… Ярость я в сердце храню…», каждое «р» болью прошивало затылок. — Да нет… Я один…
С Толей же произошла страннейшая, а на самом деле совершенно обычная история. Вы прямо как дети, — раздраженно говорил Виктор, — какие-то святые, ей-богу. Чего тут странного-то? Вечно эти ваши… живете как на облаке. (Это был такой лейтмотив их совместной жизни: Гелик и Аля, дескать, возвышенные, все про Блока, да про Блока, а Виктор такой недалекий, а Гелена такая приземленная, о литературе с ними не поговоришь, они все то в ЖЭК, то по магазинам). — Но как же, Витя… — растерянно говорила Аля. — Ведь столько лет… (Все вздрогнули, вспомнив волосатого гуся из Кащеевки-Калитеевки) — Да, столько лет! — гневно отвечал Виктор. — А мы все идиоты. Еще, считай, повезло.
А дело было так. Через четыре дня после их возвращения из Венгрии в гости на Кировскую явился «пингвин» — гэбэшник, сопровождавший их группу в поездке. Его надо было принять на полчаса, это был акт лояльности и дипломатии — на такие дела они всегда выставляли Виктора, и он, высокий, солидный, в золотых очках, вел переговоры с управдомом, с сантехником, с директрисой Жениной школы… ну и этого хмыря взял на себя. Гелик вышел погулять по Чистопрудному, Аля сидела в дальней комнате, вся в клубах сигаретного дыма, и нервно листала нового Трифонова, Гелена принесла в гостиную парадный кофе с печеньем и ретировалась в ту же дальнюю комнату. Виктор достал из серванта «Белого аиста», время пошло. — Ну как вам поездка? — Интереснейшая страна! — И дамы ваши довольны? — Дамы очень довольны! — все в таком духе. И тут появился Толя — все ребята обычно приходили вечером, а Толя — непредсказуемо, забегал пообедать в середине дня, забрасывал какие-нибудь билеты… И вот сейчас так же забежал, на минуточку, сунулся в комнату: Вить, так насчет шахмат… — произошел молниеносный перевзгляд, «пингвин» — Толя, Толя — «пингвин», Толя, лучезарно улыбаясь, сказал: Ох, простите! Влетел, как голая баба во двор. Не буду вам мешать. До скорого, Вить!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу