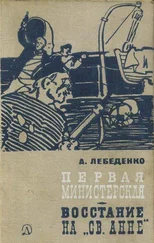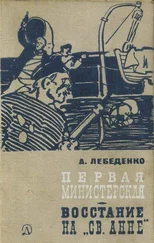Генерал Гамбара сказал адъютанту:
— Распорядитесь, чтобы летчика доставили ко мне.
* * *
Его притащили с накинутой на шею веревкой и со связанными руками. Он был так избит, что на его лице не осталось живого места. Кроме конвоировавших его двух солдат с карабинами наизготовку, рядом шел один из участвовавших в этом бою немецкий летчик с пистолетом в руке.
Когда вся эта группа приблизилась к генералу Гамбаре, он, с едкой усмешкой взглянув на немца, спросил:
— Вы боитесь его даже связанного? — И бросил адъютанту: — Что это за спектакль? Какому идиоту пришло в голову тащить пленного на веревке, словно взбесившегося зверя?
Адъютант глазами указал на немецкого летчика:
— Так распорядился капитан Штейниц.
— Немедленно снимите с него путы, — приказал генерал. — Надеюсь, капитан Штейниц не станет возражать? Я думаю, что мы общими усилиями сможем воспрепятствовать побегу пленного, если он попытается это сделать. В крайнем случае, вызовем эскадрилью истребителей из легиона «Кондор» и с ее помощью сорвем злой замысел этого крайне опасного в данную минуту человека.
Капитан Штейниц неплохо знал итальянский и прекрасно понимал не только слова генерала, но и его злую иронию. Гамбара, конечно, говорил с явной издевкой. Ему наплевать, что командир эскадрильи Штейниц потерял в одном бою двух замечательных летчиков. Сугубо пехотная крыса, он и не представляет, каково драться с этими красными фанатиками, даже когда их двое, а противников — пятеро… Можно поклясться, что в сбитом испанце генерал видит героя — как же, тот не вышел да боя и тогда, когда остался один против четверых!
Капитан Штейниц сказал, глядя генералу Гамбаре прямо в глаза:
— На месте генерала я не стал бы иронизировать. И не стал бы с таким пренебрежением говорить о немецких летчиках, выполняющих здесь, в Испании, волю фюрера. Надеюсь, генерал Гамбара понимает, о чем идет речь, хотя я и не владею итальянским языком в совершенстве?
Гамбара едва заметно улыбнулся:
— Итальянский язык богат оттенками, и далеко не всем дано постичь его в совершенстве. — И, больше не обращая внимания на капитана Штейница, повернулся к испанскому летчику.
Тот стоял, заложив руки за спину и слегка приподняв голову, глядя на редкие перистые облака, высоко проплывающие в небе. Несмотря на ссадины и уже почерневшие кровоподтеки на лице, оно не утратило мужественной красоты, сочетающейся с юношеской мягкостью черт и законченностью линий, вдруг напомнивших генералу Гамбаре одного из его сыновей, к которому он был очень привязан. И глаза у этого испанца такие же черные, живые, в них нет ни страха, ни тревоги за свою судьбу. Была лишь тень печали, как у человека в час прощания с близкими ему людьми.
— Фамилия? — продолжая смотреть на летчика с внезапно вспыхнувшей к нему жалостью, спросил Гамбара.
Летчик спокойно ответил: — Антеро. Лейтенант Антеро.
— Часть?
Антеро молчал всего несколько секунд, затем сказал:
— Военно-воздушные силы Испанской республики.
— Где находится аэродром части?
— На территории Испании.
Капитан Штейниц закричал:
— Ломает комедию, сволочь? Думаешь, мы не сумеем развязать тебе язык?
Антеро даже головы не повернул в его сторону. И это еще больше взбесило немца. Не стесняясь присутствия генерала, он грубо выругался по-немецки, потом сказал по-итальянски:
— Надеюсь, генерал не откажет в моей законной просьбе отдать мне для дальнейшего допроса этого щенка?
И опять генерал не обратил на Штейница никакого внимания, точно и не слышал его слов. Еще ближе подступив к испанскому летчику, он проговорил:
— Отказываясь отвечать, вы тем самым подписываете себе смертный приговор.
— Я сделал свое дело, — ответил Антеро.
— Вас расстреляют, потому что таков закон военного времени.
— Я сделал свое дело, — повторил испанец. — Больше мне нечего вам сказать.
Никогда еще генерал Гамбара не испытывал таких противоречивых чувств, как в эту минуту. Он не был мягкосердечным человеком, его редко трогали мольбы о пощаде своих солдат, по той или иной причине нарушивших присягу и приговоренных военно-полевым судом к смерти, тем более он не щадил и пленных, если видел в них закоренелых врагов, но, как каждый настоящий солдат, он не мог не отдавать дань мужеству, даже если эта черта принадлежала противнику.
Сейчас перед ним стоял не зрелый, закаленный жизнью человек, а юноша, которому, наверное, едва перевалило за восемнадцать. Примерно столько же, сколько и его сыну Антонио. И есть что-то общее в их характерах, да, пожалуй, и во взглядах на жизнь. Сколько раз, бывало, Антонио говорил с глубокой убежденностью: «Я не могу понять тебя, отец. Не могу понять, почему ты, образованный человек, не видишь или не хочешь видеть в фашистском движении типичного варварства… Разве Гитлер и. Муссолини — не каннибалы? Как же ты и твои друзья могут идти по их стопам, зная, что они ничего, кроме страдания, не принесут человечеству?..»
Читать дальше