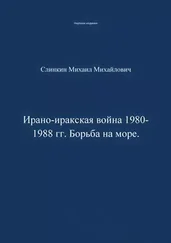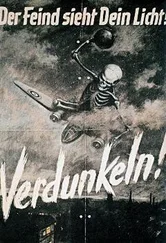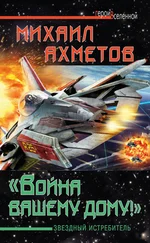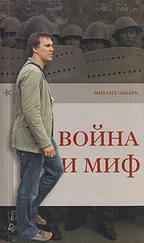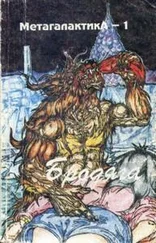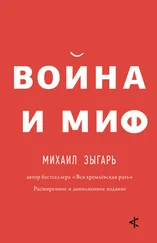К августу замечаю, что с каждым разом собираюсь на работу все с большим неудовольствием. Надо ее менять, значит. Иду к старшему референту-переводчику и прошусь куда угодно, лучше в провинцию, чтобы заниматься реальным делом, быть прямо вовлеченным в события, пусть и не совсем безопасные. Отказывает, догадываюсь почему: знает моего отца и не желает брать на себя ответственность перед ним, мало ли что может случиться. Все более свирепею от безысходности своего положения, но тут Его Величество Случай подбрасывает освобождающееся «местечко» в штабе Центрального армейского корпуса.
Когда участникам боевых действий в Афганистане стали выдавать свидетельства о праве на льготы, мой собрат — военный переводчик Иван Белик, порядком помотавшийся по охваченным войной афганским провинциям, получив свидетельство, удивился:
— Нам-тo за что? Мы вроде как и не воевали.
— Пожалуй, — согласился я. — Да и война была ненастоящая. Странная была война.
В начале 80-х годов XX столетия, судя по публикациям тех лет, наши войска в Афганистане занимались боевой учебой и с большим энтузиазмом участвовали в субботниках совместно с трудящимися братской страны. А в конце предшествовавшего десятилетия, когда советские войска еще не ступали на землю Афганистана, о наших военных советниках и специалистах, работавших практически во всех звеньях военного ведомства этой страны, в советской печати вообще не появлялось ни строчки. Между тем Народные вооруженные силы ДРА к тому времени уже втянулись в ожесточенную борьбу с отрядами исламской оппозиции и несли тяжелые потери, а наших военных интернациональный долг и чувство солидарности с подсоветными афганцами зачастую толкали в боевые порядки сражавшихся подразделений и частей.
Особенно жаркой выдалась осень 1979 года. Из-под влияния центральных властей выпадали провинция за провинцией, на сторону противника переходили целые полки с вооружением и техникой, а следовавшие одна за другой операции по уничтожению бандформирований и умиротворению восставших племен, несмотря на множество победных реляций, так и не смогли переломить ситуацию в пользу левого кабульского режима.
Война от дальних окраин страны и зоны расселения пуштунских племен, никогда, кстати, не проявлявших особой лояльности к центральным властям, подступила к самой столице. Кабул и несколько провинций, протянувшихся через полстраны от Бамиана в центре до Нангархара у пакистанской границы, входили в зону ответственности Центрального армейского корпуса (ЦАК). Немногочисленный аппарат советских военных советников штаба ЦАК все чаще был вынужден не ограничиваться только помощью афганцам в планировании и подготовке боевых действий, но и принимать непосредственное участие в их проведении. Это добавило работы и нам — трем переводчикам штаба ЦАК. Ни одна командировка в войска, естественно, не обходилась без нашего участия. Чтобы соблюсти справедливость, так как перед поездкой никто не мог знать определенно, на сколько она затянется, мы установили жесткую очередность — каждая третья командировка твоя, несмотря на то, был ли ты в прошлый раз в войсках месяц или всего один день.
Провинция Вардак. Наступление
В начале октября подошла моя очередь. Оказалось, что уже вечером нужно выезжать в центр провинции Вардак город Майданшахр: располагавшийся там 72-й пехотный полк следующим утром будет проводить операцию.
В полк от корпуса ехал начальник штаба полковник Шах-Заде со своим советником — подполковником, которого все уважительно величали просто Петровичем. Оба они составляли хорошую компанию, с которой я был готов отправиться куда угодно. Шах-Заде я знал еще с дореволюционных времен. Он вполне прилично говорил по-русски и, как многие афганцы, учившиеся в Союзе, любил порой щегольнуть знанием непарламентской лексики. Полтора года назад, когда в канун апрельского переворота военные, придерживавшиеся левых взглядов, брали власть в свои руки, он забежал в комнату растерявшихся было советников и, как мог, «успокоил» их: «Ребята! Ничего не бойтесь, так вашу растак! Делаем революцию, как вы в семнадцатом!» Был он не дурак выпить и вообще производил впечатление человека, в котором в полной гармонии сосуществовали черты характера простодушного русского и не лишенного восточного лукавства афганца. С Петровичем же я был знаком всего месяц, но был наслышан о его высокой компетентности военного человека и абсолютном хладнокровии в любой ситуации.
Читать дальше
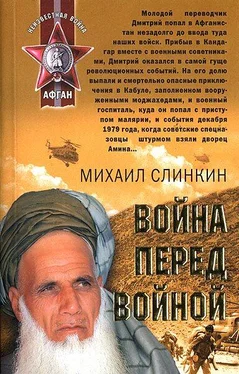

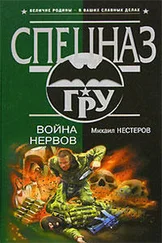
![Михаил Бочкарев - Моя война [Документальная повесть]](/books/24692/mihail-bochkarev-moya-vojna-dokumentalnaya-povest-thumb.webp)