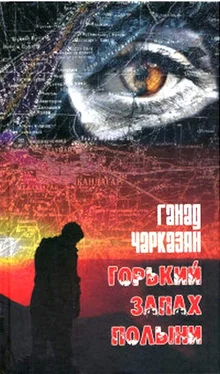Я бросал, а дед с отцом переглядывались и молчали. Потом дед, взглянув на отца, как-то очень тихо обронил:
— Вот, а ты все со своим тайменем. Надоело. Про сына рассказывай. — Потом, подмигнув мне, неожиданно предложил: — А в форточку — попадешь?
Конечно, это была провокация. Но я, впервые ощутивший признание взрослых и в глубине души очень гордый своим успехом, хотя и старался казаться равнодушным, купился на хулиганское предложение деда. Недолго думая тут же пульнул последнее, самое мягкое яблоко. В это же мгновенье в форточке возникло строгое, королевское лицо моей бабушки. Яблоко угодило ей прямо в лоб. Она сдавленно вскрикнула и отшатнулась. Дед Гаврилка тут же сорвался с места и побежал в дом. Я тоже рванулся — через сад, на улицу, потом по осеннему лугу в недалекий лес.
Там, на развесистой сосне был оборудован «штаб» — помост из досок, на котором можно было лежать и глядеть на проплывающие облака. Туда я приглашал только самых близких друзей. Но чаще бывал один. Всю дорогу перед глазами стояло беспомощно-растерянное — таким я его никогда не видел — лицо моей любимой бабушки. И столько горечи было в нем, что слезы катились из моих глаз не переставая. Было такое чувство, как будто это я сам себе запустил гнилым яблоком в лоб, и теперь эта гниль растекается, закрывая мне глаза, забивая ноздри и рот. Что делать? Как жить дальше? Нет, я не вернусь больше домой. Никогда! О, моя дорогая бабушка! Мама! Папа! Дедушка! Как же мне быть теперь?!
Я в слезах добежал до леса, нашел, не плутая, свою сосну, взобрался на нее быстро, как белка, упал животом на помост и еще долго безутешно плакал. Потом, еще вздрагивая от рыданий, забылся тяжелым, беспокойным сном. Проснулся от холода, уже в сумерках, и какое-то время сидел, обхватив колени руками и пытаясь согреться. Потом опять начал поклевывать носом, но вдруг до слуха донеслось далекое «Гле-еб! Гле-еб!». И сразу стало теплее: от меня не отказались, меня ищут, меня еще любят, несмотря ни на что!
Я стал торопливо спускаться. Пошел на голос, что звал меня. Да, это отец. Потом свет фонарика вырвал из темноты верхушку ближней ели, и я тоже крикнул: «Папа, я здесь!» Мы заторопились навстречу друг другу, обнялись, как после долгой разлуки, и слезы опять покатились из глаз.
Отец одной рукой обнимал меня, а другой гладил по спине, по голове. «Ничего, Глебушка, ничего. Бабушка уже простила тебя, она очень волнуется. Дед остался на опушке, сердце прихватило. Сидит с таблеткой валидола под языком, старый дурак…»
Пожалуй, это были минуты самой глубокой близости между мной и отцом. Больше их не случалось, но память о них всегда жила — мы даже стали улыбаться по-другому, с каким-то только нам понятным смыслом — мы словно по-настоящему узнали, кто мы. Отныне мы уже не могли усомниться — мы действительно отец и сын.
Потом подобрали притихшего деда Гаврилку и пошли сначала к бабушке Регине, а потом на другой конец села — к маме Регине. Отец держал деда Гаврилку под локоть, а меня за руку. Над осенним лугом красовался серпик луны, шелестела под ногами пожухлая трава, на душе было тихо и хорошо. И даже встреча с бабушкой Региной не казалась страшной. Правда, ждала еще встреча с мамой Региной. Но чтобы она со мной ни сделала, все это не идет ни в какое сравнение с тем, что сделал бы я с самим собой. А главное, бабушка простила меня.
Но и сейчас для меня, немолодого уже человека, много чего повидавшего на своем веку, самый страшный сон — это когда в форточке появляется лицо моей бабушки. И я тут же просыпаюсь в холодном поту. Увидеть то, что произойдет мгновением позже, — не в моих силах. Я видел это однажды и молю всех богов, чтобы это навсегда стерли из моей памяти. Возможно, все, что произошло со мной на этой чужой земле, — всего лишь наказание за мой давний и невольный проступок. Жива ли ты еще, моя дорогая и всегда любимая бабушка?
Вместе с процессией, сопровождавшей летчика, мы вышли на бывшую базарную площадь, где во время прошлогоднего навруза я лихо расколотил все бутылки — от литровой до стограммовой. Их специально собирали к празднику, привозили из города, чтобы и тот злой дух алкоголя, который сидел в них когда-то, знал, что у него есть грозный и непримиримый враг — то есть я, цыштын-дабара, хозяин камней.
Первое время мне казалось очень странным, что даже на праздниках, на свадьбах люди пили просто газировку или кока-колу. И этого хватало, чтобы искренне веселиться, петь и танцевать. Но в будничной жизни регулярно покуривали анашу, употребляли гашиш, а те, кто побогаче, — кальян, куда добавляли опиум и разные ароматические снадобья. Это были традиционные наркотические средства, а мода на тяжелые современные наркотики типа героина не привилась — во всяком случае, в деревнях. Я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь делал себе уколы. Тем более что талибы сначала вообще запрещали наркотики, — ведь Коран против всякого замутнения сознания, дарованного нам Всевышним, — а потом разрешили их производство только для продажи неверным. Это стало признаваться как форма джихада, священной войны, в которой обязан существовать каждый истинно верующий мусульманин.
Читать дальше