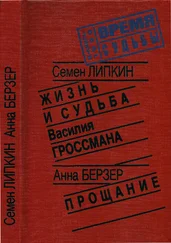1 ...5 6 7 9 10 11 ...748 Утверждая народный характер войны, народные истоки победы, Гроссман не мог не обратиться к национальному характеру, национальному достоинству, национальным традициям, национальным святыням.
Многие грани пристальнейшего внимания к русскому, Руси ‹…› обнаруживаются в дилогии. ‹…›
Но дело не только в справедливо уловленных бликах возросшего в войну национального чувства. Гроссман и здесь поднимается до историко-философского осмысления: «Сталинград, сталинградское наступление способствовали новому самосознанию армии и населения… История России стала восприниматься как история русской славы, а не как история страданий и унижений русских крестьян и рабочих. Национальное из элемента формы перешло в содержание, стало новой основой миропонимания». ‹…›
И, как не раз случается в романе, до логического конца эту антинародную апологию «государственно-национального характера» доводит немец. В момент успеха гитлеровцев в сталинградских боях лейтенант Бах рассуждает о том, что Маркс изобрел закон социального отталкивания (классовую борьбу), а государство фюрера воплотило не принятый во внимание Марксом «закон всемирного национального тяготения», рождающий «могучие силы национального надклассового сродства».
Увы, перепевы подобных мыслей о национальном сродстве вопреки «социальной физике» иногда раздаются и в наших статьях и выступлениях! Гроссман же был убежден, что национальное сознание проявляется как могучая и прекрасная сила в дни народных бедствий, только если оно человечно: возгораются человеческое достоинство, человеческая верность свободе, человеческая вера в добро, воплощенные в форме национального сознания.
Вихрь эпизодов в первой части дилогии концентрировался вокруг нескольких эпических центров: августовская бомбежка города, оборона вокзала, образ Вавилова.
В «Жизни и судьбе» темп повествования несколько ускорился, здесь уже почти нет таких «повестей в романе» — разве только оборона дома шесть дробь один в Сталинграде да «поглощение» эшелона в гитлеровском лагере уничтожения. Зато гораздо энергичнее развивается внутренний драматизм судеб, неожиданные их перепады. И тому нетрудно найти объяснение. Гроссман многое переосмыслил после XX съезда партии и разоблачения культа личности (тогда еще только «культа личности»!), а главное — обрел в себе решимость художественно реализовать свою трудно, с болью складывающуюся историко-философскую концепцию. Наряду с прямой схваткой двух смертельно непримиримых станов зримо обозначился еще один вектор — сталинская тирания, вторгшаяся в судьбы почти всех героев. Поэтому вместо прямого контраста, главенствовавшего в композиции и характерах романа «За правое дело», здесь преобладает внутренняя многосложность явлений, судеб, характеров. ‹…›
Только в лагере освобождающийся от шор Мостовской поймет, что прежнее деление людей на друзей и врагов подправлено жизнью: «Теперь он узнавал в мыслях чужого то, что было дорого ему десятки лет назад, а чужое иногда непонятным образом проявлялось в мыслях и словах друзей». ‹…›
Во втором романе яснее обнаружилось то главное, что волнует Гроссмана во всей дилогии: смысл жизни — в ее свободном вольном течении; для того, собственно, и совершали революцию, чтобы освободить энергию добра, энергию жизни и человека. ‹…›
В «Жизни и судьбе» выразитель своего рода «научной ипостаси» авторских воззрений, академик Чепыжин, станет развивать перед Штрумом идею, по которой жизнь можно определить как свободу: «Основной принцип жизни — свобода. Вот тут и пролегла граница — свобода и рабство, неживая материя и жизнь… Вся эволюция живого мира есть движение от меньшей степени свободы к высшей. В этом суть эволюции живых форм». ‹…›
Вот и такая важная для Гроссмана совсем маленькая — в полстранички! — 50-я главка второй части «Жизни и судьбы» начинается словами: «Человек умирает и переходит из мира свободы в царство рабства. Жизнь — это свобода, и потому умирание есть постепенное уничтожение свободы…» А входящий в газовню Давид отбрасывает, «не зная почему», коробочку, до того зажатую в руке, где находилась куколка бабочки: так срабатывает подсознательный, биологический инстинкт в ребенке: дать свободу живому существу перед своим уходом в царство рабства. ‹…› Главная эпическая идея, дающая внутренний импульс всей дилогии,— противостояние жизни и насилия или, что равнозначно для автора, свободы и насилия. ‹…›
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу