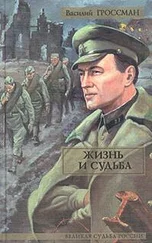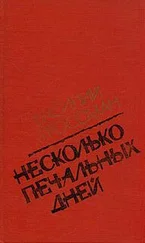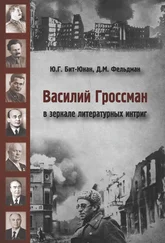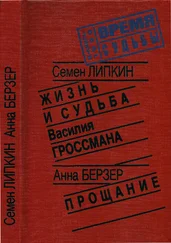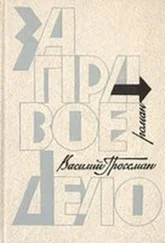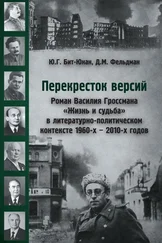Для Гроссмана, у которого очень точное отношение к слову, совсем неслучаен почти всегда слитый оборот «сплошная коллективизация». Он был не против коллективизации как естественного преобразования крестьянской жизни, он выступал против сплошной — поспешной и насильственной. Его возмущало, как была искажена благая цель кооперирования, дурные методы ее проведения в жизнь и беспримерная жестокость: вспомним посещение Ершовым отца-спецпереселенца!
‹…› Решение «уничтожить как класс» миллионную массу крестьян с женами, детьми вызывает у Гроссмана прямую аналогию с гитлеровским решением уничтожить евреев как нацию вместе с детьми, поголовно. «Ужасно убивать евреев за то, что они евреи… Но ведь у нас такой же принцип — важно, что… из кулаков, из купцов. А то, что они хорошие, злые, талантливые, добрые, глупые, веселые — как же?» — мучительно думал Штрум. ‹…› Такая кара воспринималась им [Гроссманом] как страшное потрясение гуманистических основ: карать невинных людей вкупе с виноватыми, изгонять женщин и детей из родных мест лишь за принадлежность к «опальному» классу или народу. ‹…›
Резкой болью отозвался в душе писателя и 1937 год — еще одно тотальное покушение на свободу.
Свирепая волна репрессий 30-х годов поглотила огромную массу людей, и почти все герои романа так или иначе задеты ее всплесками: у радистки Кати был арестован отец, в спецпоселении погибли родители и две сестры у Ершова, репрессированы несколько человек в семье Шапошниковых, густо заселен сибирский лагерь. ‹…›
И опять Гроссмана интересует не столько даже конкретно-историческое содержание репрессий ‹…› — сколько само их антигуманное содержание, стреляющее и по революционным идеалам, подрывающее веру в них. Гроссман, повторю снова, верил в справедливость революционных идеалов. Не христианскими заповедями, не абстрактными постулатами судил он, а идеалами свободы, во имя которых совершалась революция. ‹…›
Бесконечно страшным было физическое исчезновение людей, но страшным оказалось и то, что у миллионов людей, которых не поглотила пучина, было подавлено чувство достоинства и уверенности. Подлый свинцовый страх, пронизавший тех, кто, подобно Штруму, случайно бессистемно уцелел, и тех, кто занял место исчезнувших, губительно и непоправимо отразился на всей жизни общества, породив несвободу: боязнь ответственных, самостоятельных решений. Вот почему такой доблестью выглядит в условиях общей несвободы решение Новикова задержать на несколько минут срок намеченного сталинским приказом ввода в бой танкового корпуса, чтобы подавить еще уцелевшие огневые точки и избежать лишних потерь. ‹…› Мы так и не узнаем, что же будет с Новиковым, отозванным — не по доносу ли Гетманова? — едва завершилась операция по окружению. И эта оборванная судьба, как оборванная струна, болью отзывается в сердце, как прежде отзывалась судьба Вавилова, Ершова, Грекова. ‹…›
Если, создавая «За правое дело», ему [автору] еще приходилось какие-то свои мысли о системе тоталитаризма относить к немецкому лагерю или высказывать устами немцев, то в «Жизни и судьбе» уже ‹…› вполне последовательно проводит автор эту параллель, с присущей ему прямотой сопоставляя фашизм и сталинизм, суть фашистского порядка с деформациями социалистической системы. В конечном счете, убежден он, столкнулись два тоталитарных по своему характеру государства, и лишь бесконечное народное самоотвержение в борьбе за правое революционное дело, за свободу родины, за уничтожение фашизма позволило выиграть войну. ‹…›
Что же видел Гроссман сходного в методах тотального всевластия двух вождей противоборствующих государств? Замену права партийным «правосознанием», давящее всевластие авторитарности, «истребительную силу государственного гнева», поглощение бюрократией демократических функций общества, опору на насилие, «хирургический нож» по отношению к личности, отыскание «внутреннего врага», на которого можно свалить неудачи и против которого можно организовать ненависть масс. В одном случае то были евреи (уничтожить евреев как нацию), в другом кулаки (ликвидировать кулачество как класс).
Отсюда идут и многие иные вопросы: что же такое авторитарное государство, как связаны жизнь личности и власть государства, в чем разница и сходство между механизмом действия фашистского и нашего государств? Об этом размышляют и спорят многие герои из обоих станов — Мостовской, Лисс, Бах, Мадьяров, Каримов. Для автора это спор об исторических судьбах человечества, о возможных путях развития демократии — то, над чем он так мучительно размышлял в последние годы жизни, как бы развинчивая структуру тоталитарных режимов. ‹…›
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу