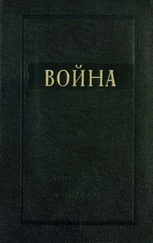Открылась дверь, ведущая в квартиру Смирнова, и вышел он сам — в войлочных туфлях и старой шинели, служившей ему халатом. Двигался зауряд-прапорщик медленно, локтями подтягивал сползающие штаны. Осмотрел винтовку Кобылкина, вслух прочитал ее номер, год выпуска.
— Еще на японской была, — задумчиво произнес он и пошел дальше. Толстый, кругловатый, Смирнов напоминал крестовика, осматривающего свою паутину: крепка ли она, не прорвалась ли где-нибудь хитрая петля? За ним настороженно наблюдали солдаты. Он хорошо это видел. У него верный, волчий нюх, и, потолкавшись по казарме, Смирнов вернулся к себе. Все мирно и спокойно, но какая всему этому спокойствию цена?
В казарме рассказывали о том, как били зауряд-прапорщика. «Учили» его за страшную, изводящую солдат нудность, за то, что он и ночью не оставлял их в покое, выходил в шинели, накинутой на белье, — тесемки кальсон волочились за ним, — засматривал в лица солдат, проверял, правильно ли сложены вещи, уличал заснувшего дневального и говорил:
— Возьми, сукин сын, три наряда.
Его накрыли в одну из таких ночей и, укутав одеялами, мяли, били, тискали, и все это — молча, без единого звука. Он не кричал, зная, что убить его не рискнут, и только поджимал голову к груди. Его покатили по коридору до дверей квартиры и, ударив напоследок, втолкнули туда. Он не жаловался, никому не рассказал, что с ним случилось. Только запомнил ефрейтора со странной фамилией — Защима, дежурившего в ту ночь. Защима не выходил у него из дисциплинарных взысканий, получал самые тяжелые назначения, и в конце концов Смирнов сумел допечь его.
…Взводный Машков поднялся со своей койки и скомандовал становиться на песни. В роте знали, что он остается на сверхсрочную службу и скоро поступит в школу подпрапорщиков. Машков прекрасно усвоил железное правило начальства: ни на одну минуту не оставлять солдата праздным, дабы ему не лезли в голову «вольные» мысли. Песни — другое дело, — верные, хорошо подобранные, они настраивают солдата на боевой лад, придают бодрость, а если и позволяют грустить, то тихо, мечтательно, безвредно для начальства.
Солдаты построились кру́гом. Машков стал в центре, расправил плечи, сложил руки на груди.
— Руки на грудь! Слева направо качаться! — покрикивал он. — Раз-два! Раз-два!.. Запевай «Кари глазки»!
Расставив для равновесия ноги, скрестив на груди руки, все ритмично раскачивались, точно убаюкивали себя. Солдат с тонкой шеей откашлялся и начал чисто и мягко, задушевным тенором:
Кари глазки, куда вы скрылись,
Мне вас больше не видать…
Остальные дружно подхватили:
Эх, куда же вы удалились,
Навек заставили страдать…
Многие забывались в песне. Обмякали лица, туманились глаза, затихала на время солдатская тоска, на душе делалось легче. Песни следовали одна за другой и закончились разудалой «Взвейтесь, соколы, орлами». На дворе горнист заиграл вечернюю зорю. Дежурный, придерживая у пояса штык, пробежал по казарме, торопил:
— Становись на поверку!
Солдаты, подтягивая пояса, выстроились во всю длину коридора. Взводные и отделенные стали перед вздвоенной шеренгой. Началась перекличка. Голос откликавшегося выскакивал, точно клавиша на рояле, когда ее ударяют. Но одна клавиша промолчала: не отозвался Мишканис…
— Если сегодня не явится, доложить ротному командиру, — проворчал Смирнов.
Но Мишканис не явился и на следующий день. Его сначала считали в самовольной отлучке, а потом приказом по полку объявили находящимся в бегах.
6
Поезд подошел к низкому деревянному вокзалу. Петров вышел на платформу, опустил сундучок и взглянул на своего спутника. Сергеев, длинный, узкий, с продолговатым белым лицом, стоял на площадке вагона и брезгливо водил глазами по сторонам.
— Идемте! — предложил Петров. — Чего ждете?
— Носильщик! — сердито позвал Сергеев, запахнул ловко сшитую, с перехватом в талии шинель, натянул коричневые лайковые перчатки и медленно сошел на платформу.
На площади Сергеев, обутый в шевровые сапоги, тщательно обходил лужи.
— Боже мой, какая кругом мерзость! — говорил он при виде убогих домишек. — Не понимаю, как мог я согласиться поехать в этакую дыру!
Носильщик нес кожаный чемодан. Подъехал извозчик. Петров поставил свой сундучок под ноги, чемодан Сергеева извозчик взял на козлы. Проваливаясь в ухабах, пролетка двинулась в город. Сергеев гордо выпрямился. На его шинели были синие твердые погоны с номером полка и шнурками вольноопределяющегося. Новенькая кокарда блестела на фуражке.
Читать дальше