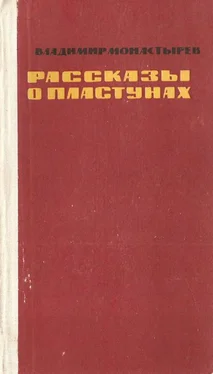Возле ефрейтора Рябко майор задержался. Они закурили, присев в окопе и пряча цигарки в рукава.
— Жмет немец, — сказал Рябко, — в прошлую ночь соседей три раза атаковал, в эту, говорят, на нас пойдет.
Говорил ефрейтор спокойно, будто и не ему предстояло в эту ночь отбивать атаки противника. Это спокойствие, каким отличались пожилые казаки, всегда удивляло Алемасова. Сам он перед боем волновался, ощущал нервный подъем и тревогу одновременно. Научился скрывать волнение, прятать тревогу, но вот такого естественного спокойствия и даже некоторой отстраненности от предстоящего, какое было у того же ефрейтора Рябко, он не достиг.
— Немец почему ночью стал воевать? — рассуждал между тем Рябко. — А потому, что днем наши на него муху пускают, он от нее не знает, куда деваться.
Алемасов усмехнулся: метко оказал Рябко, он имел в виду нашу авиацию, которая теперь господствовала в воздухе и не давала противнику покоя. Пополнение в последнее время давали скупо, но техники было много.
Прошла по траншее, спеша куда-то, Шура. Рябко проводил ее взглядом, сказал:
— Доброволка наша. У меня дочка такая же: шустрая, беспокойная. Я ее так и зову — дочкой, а она меня батей…
Над траншеями, над холмами с редкими перелесками текла тихая, по-весеннему темная ночь. Где-то справа на темном небе изредка вспыхивали и гасли радуги трассирующих пуль. Где-то далеко — звуки выстрелов не доходили. Алемасова эта тишина тревожила: не к добру. А Рябко, подперев широкой спиной стенку окопа, привычно сидел на корточках, покуривал из рукава и неторопливо говорил:
— Не женское это дело — воевать, а что поделаешь. Такой наш век, что бабе приходится мужскую работу исполнять. Опять же без них и на войне плохо. Мало того, что мужик тебя так и не перевяжет при ранении, как женщина, она еще и слово знает, чтобы душу отогреть. И поглядеть на нее бывает приятно, и для примера не вредно: если женщина военную тягость переносит, то мужику и жаловаться грех… А с Шурой мы на досуге беседуем по душам. Я ей про свою дочку рассказываю, она про свою жизнь. Хлебнула она горюшка. Полная сирота, в неволе два года жила, всякого повидала. Последний год в Польше, у немца-колониста в работницах находилась. Кормили ее там досыта, не били. Работать заставляли много, но это, говорит, ничего, к работе можно привыкнуть. Не могла она привыкнуть, что относились к ней, как к скотине. Для этого колониста, говорит, что корова или лошадь, к примеру, что я — все одно, никакой разницы. Перестала корова доиться, он ее прирежет, выбилась из сил работница, он ее — в лагерь, откуда взял. Может, и прирезал бы, как скотиняку — хлопот меньше, — а не положено, пусть в лагере сама доходит… Вот она и говорит: очень хочется до Германии дойти, поглядеть, что же это за страна такая, где эти колонисты произрастают…
Еще часа полтора было тихо на переднем крае, и Алемасов успел побывать и у пулеметчиков, и у бронебойщиков. Потом тишина взорвалась по всей линии окопов: противник обрушил артиллерийский огонь на траншеи. Потом были три атаки. На левом фланге дело дошло до рукопашной.
Алемасов забрал автомат у раненого казака и палил в ночь, при свете ракет бил прицельно по темным фигурам, поднимавшимся из лощины к траншеям.
Комбата он увидел на рассвете, когда немцы попритихли и ночной бой исходил вялой перестрелкой. Кошунков опять был гол до пояса, и Шура его перевязывала. На этот раз он предупредил вопрос Алемасова.
— Лопнул, — сказал он с нервным смешком. — Чирий лопнул — так легко стало, будто заново на свет народился.
Сбивая немецкие заслоны, наши войска двигались на запад, и уже виден был конец войны, и на дорогах обозы шли днем, не опасаясь вражеской авиации, не маскировались, не рассредоточивались. Иногда вдруг возникал в небе «мессер», но тотчас, будто они того и ждали, бросались на него советские истребители. А не было истребителей, зенитчики открывали огонь и глядишь — уже задымил «мессер», валится на крыло и камнем летит к земле. Научились за четыре года воевать, и все теперь, в эти весенние дни, удавалось, получалось лихо.
Алемасов двигался с батальонами — то в одном поживет пару дней, то в другом. Как-то днем сидели они с Кошунковым на берегу неказистой речушки, ждали, когда подойдет кухня. Тут же, выбрав места посуше, грелись на солнышке пластуны. Чуть поодаль раскинулся чей-то обоз — машины, подводы, тягачи. На новеньком, еще пахнущем смолой мосту сидели двое солдат, свесив в воду лески.
Читать дальше