— Мама! Что это? — спрашивает брат.
— Это — начало Победы… и Новый год!
— Это — первый Новый год во время войны! — говорит брат.
— Нет, уже второй, — поправляет его мама.
А потом мы молчим, глядя на покрытый белой чистой скатертью стол, на котором горит свеча и блестит посуда, и ложки, и вилки, и стоит в рамочке за стеклом фотография нашего дорогого дяди Васи.
И уголок заснеженной форточки в нашем окне блестит изморозью.
— Дай сюда! — кричит на весь класс Говорящая Машина и, подойдя к Чернетичу, останавливается перед ним.
Класс замирает, и Чернетич тихо отвечает:
— Нет.
— Что же?! Я буду так целую вечность стоять перед тобой?!
Чернетич молчит.
— Ты что?! Издеваешься, что ли, надо мной?!
Кто-то громко вздыхает на последней парте. Мы оборачиваемся. Бедный Тимме из бледного делается красным.
— Во-он! — орет внезапно на Тимме Говорящая Машина.
Все такой же красный, смущенно улыбаясь, Тимме, шаркая ногами, идет к выходу. Когда дверь за ним закрывается, Говорящая Машина подходит к журналу и что-то пишет.
— Я поставила ему «два»! За то… за то… в общем, за безобразное сочувствие к тем… к тем, кто… — не скрывая своей ненависти, она в упор смотрит на Чернетича, — к тем, кто без всякого права живет в нашей стране, пользуется бесплатным обучением! И это в такие годы! В годы, когда многие сражаются и гибнут, а не сидят, — голос ее срывается на визг, — не сидят, великовозрастные, на партах! Во-он! Во-он из класса! — Она орет как сумасшедшая.
Не глядя на нее, Чернетич выходит из-за парты, и я замечаю у него в руке что-то белое. Движение — и сложенная в несколько раз газета попадает ко мне в руки. Он выходит из класса.
— Теперь, когда те, кто не хочет учиться, не будут мешать нам, снова пишите…
Следя за каждым ее движением, я раскрываю газету и сразу вижу отчеркнутое чернилами сообщение:
«Зверства оккупантов в Югославии. Лондон. 31 декабря (ТАСС). По сведениям из югославских кругов Лондона оккупационные власти Югославии истребили население целых деревень по подозрению в поддержке партизан. В деревнях Крива Река и Майковац было убито более 1000 мужчин, женщин и детей. Оккупанты сожгли 70 домов, несколько десятков человек было заперто в церкви, которая затем была подожжена. Крестьянин Родован Трифонович и его семья были задушены, крестьяне Янко Цветкович, Маладин Реллк сожжены живьем…»
Когда звенит звонок, Чернетич, не глядя ни на кого, возвращается в класс, подходит ко мне и берет у меня газету. Ребята молча и с каким-то особым вниманием смотрят на его бледное красивое лицо.
— Спасибо, — кивает он и кладет газету в портфель.
На перемене Тимме делает мне какие-то таинственные знаки. Я иду с ним на первый этаж, но он увлекает меня еще дальше — под лестницу к фанерному стенду. Приблизив лицо и широко открыв добрые белесые глаза, Тимме шепчет:
— Я — владелец страшной и ужасной тайны! Я не знаю, как мне быть… Мой долг, я знаю, состоит в том, чтобы все рассказать директору… Но он, как мы знаем, излишне горяч… и кроме того, ему не до нас теперь… И я раньше решил сказать тебе… — Звонок прерывает его монолог. — Сейчас литература. Онжерече. Прогуляем? — Я киваю. — Так вот. Помнишь тот вечер, когда мы просили хлеб у моста?
— Конечно.
— Так вот. Много раз твой… извини, наш Славик просил меня пойти в ту дыру, куда спрятались дети, облаченные в крестьянскую одежду. И я дал согласие. Думал удержать его от плохого… Но оно произошло… И при моем участии. Я — сообщник! Стыд мучает меня…
— Тимочка, дорогой, расскажи короче!
— Извини. Эти дети живут в люке. Они прятали свой собранный хлеб там. И Славик взял его и унес. Там было килограмма два сухих корочек. Они были запрятаны в сундук, на крышке которого изнутри так трогательно наклеен портрет товарища Сталина! И я…
— Все! Хватит! Пошли!
— Он предложил мне сухарь, но мое горло все равно не смогло бы проглотить этот, так низко украденный, хлеб! И я отказался и сказал: «Отнеси обратно, или я все расскажу в школе!» Но он засмеялся: «Тебе все равно никто не поверит! Во-первых, ты — немец! Во-вторых — соучастник!
И не забывай, что ты и твоя семья просто чудом не высланы из Москвы». И я… и я вспомнил о маме… и о бабушке…
«Вот тебе и немец! — думаю я. — Немец… немец… Что со мной?» Все спуталось, закружилось в моей голове. Страшная волна ненависти растет во мне. И я знаю, что надо делать, делать быстро!
Читать дальше
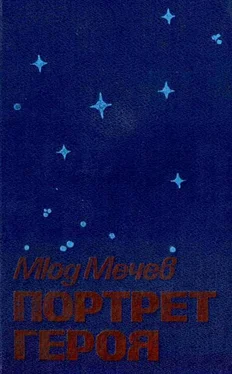
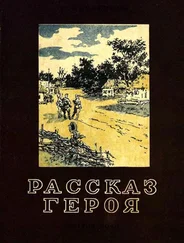

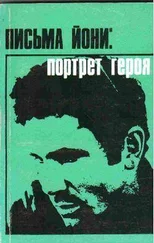


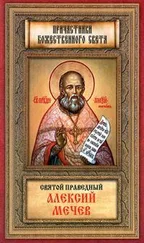

![Денис Куприянов - Дневник Аниме Героя [СИ]](/books/413521/denis-kupriyanov-dnevnik-anime-geroya-si-thumb.webp)


