— Нет.
— А… а вам хочется рисовать?
— Да, иногда.
— А мне — все время! Я уже знаю — не буду продавцом. Обязательно буду художником! А если мамка будет мешать — убегу! Если рисовать всю жизнь, — мечтательно продолжает он, — можно много сделать картин. Я бы все время рисовал… и не учился бы нисколечко… Вот только красок много надо! — Он озабоченно вздыхает. — А после войны будут продавать дешевые краски?
— Обязательно.
Я протягиваю ему руку, он серьезно смотрит на меня и спрашивает:
— Скажите… а можно сделать фонтан?
— Из чего?
— Из шоколадной бумаги? И чтобы вода из него била?
— Нет. А зачем тебе?
— Для сказки, — застенчиво отвечает он. И мы расходимся.
Я иду по заледеневшему тротуару и все пытаюсь вспомнить, где я видел те лица на фотографии в облаках зеленоватого цвета. И когда дохожу до нашего проходного двора у церкви, то разом вспоминаю тот солнечный довоенный день.
Я вспоминаю: мы с мамой, радостные и счастливые, стояли среди шумной толпы на Сельскохозяйственной выставке, куда мы приехали из нашего Пуговичного переулка, где все знали о нашем несчастье, где не любили нас. Счастливы мы были и от солнца, и от того, что нас никто не знает здесь, что мы — как все, такие же люди, с руками и ногами, так же одеты, как все, и можем, как все, радоваться и смеяться, а не страдать и плакать, как там, на Пуговичном. И все было хорошо, но потом мы потеряли брата. Все время он был с нами, а тут исчез, будто испарился. Мама просто застыла на месте; мы оба смотрели во все глаза и вдали увидели толпу, собравшуюся в кружок, а посредине этой толпы была видна белая — по случаю выходного дня — фуражка милиционера.
— Он там! — сказал я. И, действительно, когда мы подошли, то увидели вспотевшего милиционера, озабоченно смотревшего на маленького брата, который именно в эту минуту обращался к нему:
— Я полагаю, преступлений больше не будет!
— Еврейчик, — сказали в толпе.
— Не похож.
— Еврейчик, говорю вам! Только они все знают!
— Карлик! Карлик! Из цирка!
После этих слов мама подошла к брату и взяла его за руку.
— Это мой сын, — сказала она.
— Слава богу! — выдавил из себя милиционер.
И тут я заметил, что мама вся посерела. Какой-то аккуратно одетый седой человек в золотых очках со странной усмешкой смотрел на нас. И я понял, что мама его знает, и мне почему-то стало не по себе.
— Идемте, — сказала мама и, повернувшись к милиционеру, поблагодарила его.
И мы быстро-быстро пошли, как будто убегали от кого-то. Чувствуя у себя на спине и пот, и холод, я не решался раскрыть рот. Так, почти бегом, мы дошли до фонтана; мама, оглянувшись, как будто успокоилась, а брат заявил:
— Я не могу ходить так быстро, у меня маленькие ноги.
А я все старался понять, что же произошло, и оглядывался. Мама стояла рядом, глядя на фонтан. И вот тогда-то и подошла эта пара: он с усами, в косоворотке, а она с завивкой «перманент-Европа» с маленьким ребеночком на руках, которого и видеть-то было нельзя, потому что весь он был погружен в кружевной сверток, перевязанный красной шелковой лентой с бантом. А я смотрел на этого мужчину с усами и сразу почувствовал, что вот такой и должен быть хороший человек: и спокойный, и красивый, и опрятный, и сильный, и какой-то надежный!
Я повернулся к маме, я хотел ей сказать, но сразу понял: сейчас произойдет что-то ужасное! Совершенно белая, она старалась заслонить нас с братом от того седого, в золотых очках, что шел прямо к ней.
— Здравствуйте! — громко сказал он, бросив на нас с братом мимолетный взгляд.
Мама наклонила голову.
— Вы еще здесь?! Что же вы молчите? Не узнаете?
— Я узнала вас. — Я едва мог расслышать мамин голос.
— Весьма польщен и прошу ответить на мой вопрос!
— Я слушаю…
— Как вы смеете?! — Он широким жестом показал на людей кругом и более всего сделал этот жест в сторону пары с ребенком. — Как вы смеете показываться среди людей, среди порядочных советских людей?!
И тут мама, а потом, конечно, и я, а через секунду и брат — все мы заплакали; и уже сквозь слезы я увидел, как человек в косоворотке быстро подошел к седому и коротко спросил его:
— Она что, украла?
— Нет, но…
— Убила?
— Нет…
— Так что же?
— Ее муж…
— А-а-а! — И очень спокойно человек в косоворотке правой рукой взял седого за левый лацкан пиджака и привлек к себе, отчего седой стал меньше ростом прямо на глазах.
— Я — профессор! — очень быстро проговорил он.
— Говно ты, а не профессор!
Читать дальше
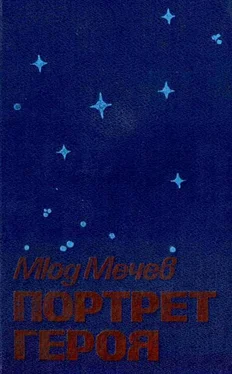
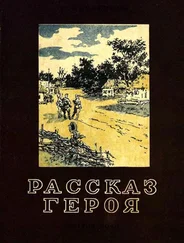

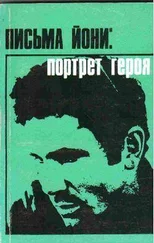


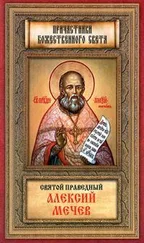

![Денис Куприянов - Дневник Аниме Героя [СИ]](/books/413521/denis-kupriyanov-dnevnik-anime-geroya-si-thumb.webp)


