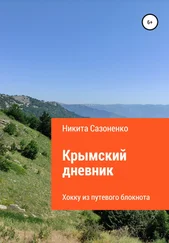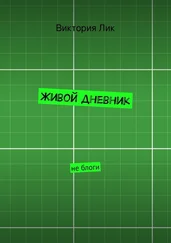С афганской стороны в битве участвовали войска правителя Герата Аюб-хана: десять регулярных полков пехоты (4000 человек), три — кавалерии (900 сабель), 30 орудий, а также несколько тысяч человек иррегулярной конницы.
В сводном английском отряде, которым командовал бригадный генерал Бэрроуз, насчитывалось 1600 человек пехоты, 550 сабель, 6 орудий.
Бой начался продолжавшейся несколько часов артиллерийской дуэлью, которая закончилась в пользу афганцев, имевших перевес не только в числе орудий, но и в их качестве: у Аюб-хана было шесть новейших нарезных орудий армстронговского образца с более мощными, чем у англичан, снарядами. После нескольких схваток, в том числе рукопашных, и кавалерийских атак Аюб-хан бросил в бой свою главную силу — пехоту газиев. Они бесстрашно шли сквозь огонь. Англичане к тому моменту уже не имели артиллерийских снарядов, и, не выдержав удара, они в беспорядке отступили к Кандагару, потеряв убитыми не менее 800 человек.
На Майвандской колонне в Кабуле высечено двустишие:
Если не погибнешь ты в Майванде,
Клянусь, позор тебя не минует, любимый!
По преданию, автором двустишия была Малаля, семнадцатилетняя девушка из Майванда, поднявшая в критический момент боя над головой знамя и воодушевившая воинов своей красотой и этими стихами.
Но вот еще одна явная «нелогичность» Востока. Победитель при Майванде Аюб-хан (кстати, младший брат бывшего «друга англичан» Якуб-хана) через год с небольшим был разбит афганскими же войсками эмира Абдуррахмана, бежал из страны и умер в изгнании.
Эмир Абдуррахман, заключив с англичанами соглашение о полном подчинении им своей внешней политики, правил круто и долго, введя страну в двадцатый век; к сожалению, только в хронологическом, а не в историческом смысле.
Стремясь любой ценой удержаться на троне, он укрепил административно-полицейский аппарат, создал всеобъемлющую систему тайной осведомительной службы. Соглядатаи подчинялись лично эмиру, дублируя даже донесения государственных деятелей и военачальников.
Въезд европейцев в страну и выезд из страны афганцев разрешались только лично эмиром, ослушникам грозила смертная казнь.
В конце девятнадцатого века в Афганистане были проведены некоторые реформы: денежная, военная, налоговая. Известия о них просачивались и в Россию. «Абдуррахман-хан, вынужденный обстоятельствами, — отмечалось в «Сведениях, собранных штабом Туркестанского военного округа за 1894 г.», — объявил своим подданным, что афганское государство сделалось ныне великим, а потому обыкновенные доходы его далеко не покрывают действительных расходов; почему подданные приглашаются платить теперь подати сравнительно больше, чем платили они таковые раньше, а солдаты должны получать жалованья несколько менее против прежнего».
Но при всех противоречиях правления эмира Абдуррахмана именно при нем зародился афганский пролетариат. В 1885 году в Кабуле были открыты первые мастерские заводского типа «машин-хана», станки и механизмы для которых покупались за границей и в разобранном виде доставлялись по горным дорогам и тропам. Скоро в «машин-хане» уже работали около 1500 рабочих.
Абдуррахман был в числе немногих властителей Афганистана, скончавшихся не потеряв власти и не насильственной смертью. В 1901 году эмиром стал его сын Хабибулла.
Глядя на карту, туда, где Афганистан граничит с нашей огромной страной, как-то не ощущаешь его значительного размера. Бели перенести, например, на его территорию самое крупное государство Западной Европы — Францию, еще останется место для стран поменьше — Бельгии, Нидерландов, Дании.
Мрачен, безлюден горный Хазараджат, там редко тают снега, там сталкиваются хребты, почти нет обрабатываемых земель — таков центр Афганистана.
Джелалабадская равнина — восток страны изнывает от зноя. Горы не пропускают сюда дыхания северных ветров, плодородный чернозем ссыхается до твердости камня. Но люди построили здесь каналы, растущие на их берегах фрукты считаются лучшими в Азии.
Плодородной была в древности и низменность Бактрии — север страны, между Амударьей и Гиндукушем. Время и завоеватели разрушили ирригационные сооружения, сегодня даже текущие с Гиндукуша реки иссякают в песках.
А на северо-западе, ближе к иранской границе, лежит изобильная, богатая долина Герируда — «житница Центральной Азии». Но если спускаться на юг, то, миновав орошаемые районы Кандагара и Заминдавара, попадешь в песчаные холмы и малярийные болота Сеистана.
Читать дальше
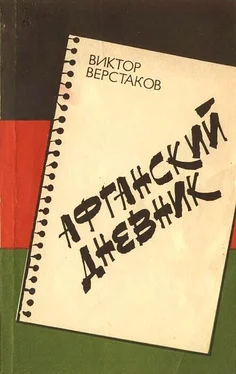
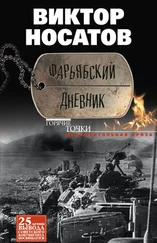

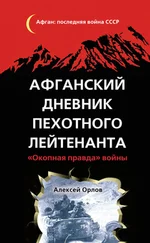
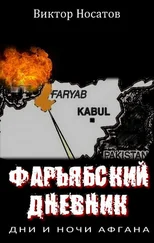

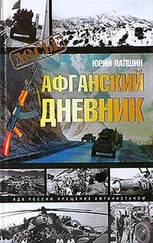
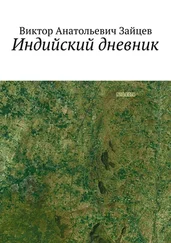
![Виктория Мочалова - Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза]](/books/386856/viktoriya-mochalova-lytdybr-dnevniki-dialogi-proz-thumb.webp)