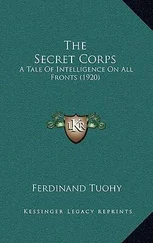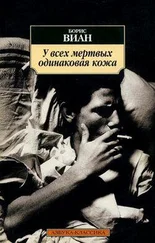— Я ж до победы берег эту «бонбу», — показал на бутылку, выпил и, кашлянув, провел кулаком по усам. — Недели три возил с собой.
— Гадость какая! — сморщилась Верочка, поспешно закусывая. — Так и берегли бы. Зачем распечатали?
— А на тебя, голубонька, посмотрел, да и распечатал. Чуть-чуть не была тебе сегодня с утра «победа»… Отвозил я двоих раненых. Одного живого довез, а другой молоденький такой, як ты, дорогой скончался. Галю какую-то все поминал, заверял, что вернется к ней… Ты б, наверно, и доси там отдыхала, когда б лейтенант не вынес.
— Он что, меня на руках нес?
— А как же? Нес. А потом я подвернулся. Он меня покликал.
— Леша… Уехал, — вздохнула Верочка, — обиделся, наверно.
Она давно замечала за собой, что смотрит на Батова не так, как на других, при встрече с ним как-то по-особенному волнуется, но считала — все душевные дела не для фронта. Вот кончится война, тогда другое дело.
Однако сегодняшний случай совершенно повернул ход ее мыслей. Ведь могло же случиться так, что для нее война закончилась бы утром. И никогда бы не узнал Алексей, сколько хорошего хранит ее сердце для него. Он и сейчас не знает…
— Михеич, — вдруг спросила она, — а что, если эта война — последняя?
— Как это — последняя?
— Ну, самая-самая распоследняя. Неужели у тех, кто начинает войну, совсем нет никакого сердца?
Старый солдат молча пощипывает ус и не находит прямого ответа.
— Того не можно сказать, голубонька, что будет. Может, и последняя это война… Не знаю, дочка, а только не такой человек буржуй, чтобы без чужой крови прожить мог. В ту войну тоже миллионы поклал. Думалось, что и война последняя, и России конец. Трудно было поверить, что снова жизнь возродится. Выжили. Да еще как жить стали! И дома поотстроили, и могилы позарастали…
Верочка уже не слушает Михеича. Она думает о том солдате, что дожил только до сегодняшнего утра и поминал перед смертью о какой-то Гале. Снова мысли возвращаются к Батову. И чудится: она называет его только по имени, очень ласково — Лешенька. И ей кажется, что с ним что-то случится.
Мысли постепенно затухают. Она лежит на солнце и чувствует, как теплые лучи прогревают сомкнутые веки. Сквозь полудрему слышит мерное похрапывание Михеича в траве под телегой. В ветвях, невидимые, перекликаются пичужки. Изредка переступает копытами и звякает удилами Сивый. С трудом верится, что где-то совсем недалеко — война, бой…
На танках пехота настигла противника и после короткого боя остановилась в деревне на ночь.
Утром снова в путь. Старший лейтенант Сорокин, командир стрелковой роты, ведет головную походную заставу. С ним его взводные и младший лейтенант Дьячков с пулеметчиками. Замыкает колонну противотанковая пушка.
Колонна идет спокойно, без помех. Передовой пост обследует путь и, убедившись, что он совершенно свободен, сообщает об этом сигналами заставе. Ни на дороге, ни по сторонам от нее, ни в деревнях не встречается ни единой живой души.
Возле крутого поворота направо в густой лес солдат из дозора подает сигнал «путь свободен». Но дальше дорога идет по прямой всего каких-нибудь метров полтораста. И снова крутой, под прямым углом поворот — только теперь налево. С правой стороны к самой дороге подступают густые заросли кустарника, растущего на низком болотистом месте. Слева не очень густой сосновый лес. Дорога попадает в тень и стрелой убегает метров на триста. А там снова поворот, но теперь направо. Словом, если посмотреть на дорогу сверху, то форма изгибов напоминает последнюю букву немецкого алфавита или одну загогулину фашистской свастики.
Застава только вошла в мрачную, затененную низину, а дозор уже скрылся за последним поворотом, там много солнца и света. Голова колонны спокойно перевалила половину низкого места.
И вдруг…
С правой стороны из густых зарослей кустарника в упор на плотно идущую головную заставу обрушился сплошной шквал пулеметного и автоматного огня, посыпались гранаты. Никто не только не успел опомниться или предпринять что-либо — некоторые не повернули головы навстречу смерти, а иные даже не услышали выстрелов.
Немногие уцелевшие от первых вражеских пуль бросились врассыпную, устремились в лес. Но попали под двойной автоматно-пулеметный обстрел: с противоположной стороны открыла встречный огонь другая группа гитлеровцев.
Кони, запряженные в сорокапятимиллиметровую пушку, были подорваны гранатами. Еще живые, они дико кричали и бились в постромках, в предсмертной агонии нанося удары друг другу и обильно расплескивая кровь по всей ширине асфальта.
Читать дальше

![Борис Яроцкий - Агент полковника Артамонова [Роман]](/books/34095/boris-yarockij-agent-polkovnika-artamonova-roman-thumb.webp)