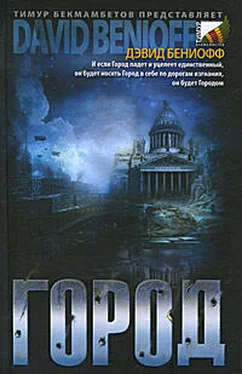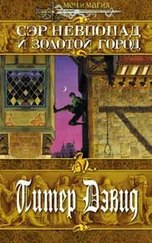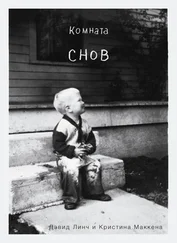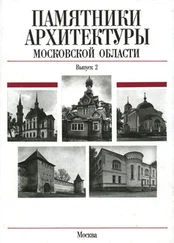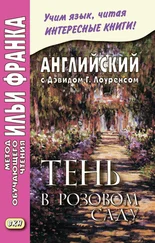— В последний раз я такой хлеб летом ел, — с набитым ртом произнес Коля. Он уже все сжевал.
— Видите «коммандерваген» со свастиками? Это машина Абендрота.
— Откуда ты знаешь? — спросил я.
— Потому что мы его выслеживаем уже три месяца. Под Будогощью чуть его не подстрелила. Это он.
— Что делаем? — спросил Коля, выковыривая крошку из зубов.
— Колонна тронется, я дождусь, когда он поравняется с нами, и рискну. Должно получиться.
Я оглядел дорогу — и впереди, и за спиной. Вокруг нас — чуть ли не целый батальон. Сотни вооруженных немцев, и пеших, и на бронемашинах. Викино решение означало, что через несколько минут мы будем покойниками вне зависимости от того, попадет она или нет.
— Стрелять буду я, — сказал Коля. — Вы со Львом отойдите к этим кретинам колхозным. Нет смысла всем подставляться.
Вика скривила губу в подобии улыбки и покачала головой:
— Я лучше стреляю.
— Ты меня в деле не видела.
— Это правда. И я стреляю лучше.
— Неважно, — сказал я. — Кто бы из вас ни стрелял, какая разница? Думаете, нас оставят после этого в живых?
— Парнишка дело говорит, — заметил Коля. Он кинул взглядом неграмотных колхозников вокруг — они переминались с ноги на ногу, похлопывали руками для сугреву… Обычные крестьяне, ничего, кроме родного колхоза, не видели в жизни. К ним затесалось несколько рядовых красноармейцев. Из них парочка, я был уверен, умела читать не хуже меня. — Сколько, они сказали, пленных? Тридцать восемь?
— Уже тридцать семь, — сказала Вика. Она перехватила мой взгляд, ни на миг от нее не отлипавший. Уставилась на меня безжалостными синими глазами. — Как ты думаешь, крестьяне скоро заметят, что тебе кой-чего там не хватает? — Она показала подбородком куда-то мне в низ живота. — И выдадут тебя за миску похлебки?
— Тридцать семь… — задумчиво произнес Коля. — Многовато за одного немца.
— Тридцать семь человек для мартенов? Эти люди уже не русские, — сказала Вика спокойно и довольно равнодушно. — Они германская рабсила. Ими стоит пожертвовать ради одного Абендрота.
Коля кивнул, разглядывая штабной автомобиль в отдалении.
— Значит, мы пешки, а он — ладья? Так, по-твоему?
— Мы меньше пешек. У пешек есть ценность.
— Если мы можем захватить ладью, у нас тоже есть ценность. — Сказав это, Коля моргнул и посмотрел на меня. И неожиданно расплылся в ослепительнейшей самоуверенной улыбке. Некий новый замысел — и явно грандиозный, как и прочие. — Может, есть и другой вариант. Погодите-ка.
— Ты куда? — спросила Вика, но было поздно — Коля зашагал к ближайшей кучке военных. Немцы сощурились, их руки потянулись к предохранителям автоматов. Но Коля поднял руки и затрещал о чем-то по-немецки — оживленно и расслабленно, словно все они собрались парад войск посмотреть. Через полминуты все уже смеялись его шуткам. Один автоматчик даже дал ему затянуться сигаретой.
— Умеет голову вскружить, — произнесла Вика. Так энтомолог отмечает свойства жучиного панциря.
— Может, они решили, что он отбившийся от стаи брат ариец.
— Вы с ним странная парочка.
— Мы не парочка.
— Я не в этом смысле. Не переживай, Лёва. Я знаю, что тебе девушки нравятся.
Лёвой меня называл отец, и услышать это имя из ее уст было неожиданно — но естественно, как будто она меня так звала много лет. Я чуть не расплакался.
— Ты же на него разозлился, правда? Когда он сказал, что тебе хочется посмотреть на меня голую?
— Он вообще много глупостей говорит.
— Так ты не хочешь посмотреть на меня голую?
И Вика издевательски усмехнулась. Она стояла, широко расставив ноги и сунув руки в карманы.
— Не знаю. — Да, это был глупый и трусливый ответ, но перипетий этого утра мне уже хватило. То я убежден, что жить мне осталось всего несколько минут, то со мной кокетничает снайперша из Архангельска. Это она со мной кокетничает? У меня не жизнь, а сплошь череда катастроф. Кажется, днем предстоит невозможное, а вечером это уже преданья старины глубокой. С неба валятся немецкие трупы, на Сенном рынке людоеды торгуют колбасой из человечины, рушатся целые дома, собаки становятся минами, а замороженные солдаты — дорожными указателями; на снегу, покачиваясь, стоит партизан без половины лица и с грустным упреком смотрит на своих убийц. В желудке у меня уже давно не было никакой пищи, на костях — мяса, а в душе — сил, чтобы задумываться об этой кунсткамере зверств. Я просто двигался, рассчитывая где-нибудь найти еще полкраюшки хлеба для себя и дюжину яиц для капитанской дочери.
Читать дальше